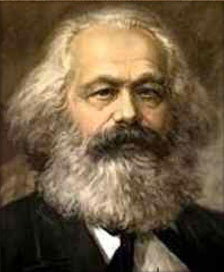не кто иной, как «преображенный немец». Это утверждается повсюду. Подобно тому как Гёте «не национальный поэт», но «поэт человеческого», так и немецкий народ «не национальный» народ, но народ «человеческого». Поэтому на стр. XVI мы читаем: «Поэтические творения Гёте, возникнув из жизни… не имели и не имеют ничего общего с действительностью». Точь-в-точь, как и «человек», точь-в-точь, как и немцы. А на стр. 4: «И сейчас еще французский социализм хочет осчастливить только Францию; немецкие же писатели обращены лицом ко всему роду человеческому» (между тем как «род человеческий» в большинстве случаев «обращен» к ним не «лицом», а довольно-таки отдаленной от него и противоположной ему частью тела). Г-н Грюн во многих местах выражает также свою радость по поводу того, что Гёте хотел «дать выход свободе чело-пека изнутри» (см., например, стр. 225), но из этого чисто германского освобождения все еще ничего «не выходит».
Итак, констатируем это первое разъяснение: «человек» — это «преображенный» немец.
Проследим же, в чем заключается признание г-ном Грюном Гёте «поэтом человеческого», признание «человеческого содержания в Гёте». Это признание нам лучше всего откроет, кто тот «человек», о котором говорит г-н Грюн. Мы увидим, что г-н Грюн разглашает здесь сокровеннейшие мысли «истинного социализма», подобно тому как вообще в своем неукротимом стремлении перекричать всю свою компанию он заходит настолько далеко, что выбалтывает миру вещи, о которых прочая братия предпочла бы хранить молчание. Ему, впрочем, тем легче было превратить Гёте в «поэта человеческого», что Гёте сам часто в несколько высокопарном смысле употреблял слова «человек» и «человеческий». Гёте употреблял их, конечно, только в том смысле, в каком они употреблялись в его время, а позднее также Гегелем, когда определение «человеческий» применялось преимущественно к грекам в противоположность языческим и христианским варварам, задолго до того, как Фейербахом было вложено в эти выражения мистически-философское содержание. У Гёте, в частности, в большинстве случаев они имеют совершенно нефилософское, плотское значение. Лишь гну Грюну принадлежит заслуга превращения Гёте в ученика Фейербаха и в «истинного социалиста».
О самом Гёте мы не можем, конечно, говорить здесь подробно. Мы обращаем внимание лишь на один пункт. — Гёте в своих произведениях двояко относится к немецкому обществу своего времени. То он враждебен ему; оно противно ему, и он пытается бежать от него, как в «Ифигении» и вообще во время путешествия по Италии; он восстает против него, как Гёц, Прометей и Фауст, осыпает его горькими насмешками Мефистофеля. То он, напротив, сближается с ним, «приноравливается» к нему, как в большинстве своих стихотворений из цикла «Кроткие ксении» и во многих прозаических произведениях, восхваляет его, как в «Маскарадных шествиях», даже защищает его от напирающего на него исторического движения, особенно во всех произведениях, где он касается французской революции. Дело не только в том, что Гёте признает отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим сторонам, которые ему враждебны. Часто это только проявление его различных настроений; в нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и осмотрительным сыном франкфуртского патриция, достопочтенным веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключать с этим убожеством перемирие и приспосабливаться к нему. Так, Гёте то колоссально велик, то мелок; то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. И Гёте был не в силах победить немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что «изнутри» его вообще нельзя победить. Гёте был слишком разносторонен, он был слишком активной натурой, слишком соткан из плоти и крови, чтобы искать спасения от убожества в шиллеровском бегстве к кантонскому идеалу; он был слишком проницателен, чтобы не видеть, что это бегство в конце концов сводилось к замене плоского убожества высокопарным. Его темперамент, его энергия, все его духовные стремления толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, с которой он сталкивался, была жалка. Перед этой дилеммой — существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать и все же быть прикованным к ней как к единственной, в которой он мог действовать, — перед этой дилеммой Гёте находился постоянно, и чем старше он становился, тем все больше могучий поэт, de guerre lasse{75}, уступал место заурядному веймарскому министру. Мы упрекаем Гёте не за то, что он не был либерален, как это делают Берне и Мен-цель, а за то, что временами он мог быть даже филистером; мы упрекаем его и не за то, что он не был способен на энтузиазм во имя немецкой свободы, а за то, что он филистерскому страху перед всяким современным великим историческим движением приносил в жертву свое, иной раз пробивавшееся, более правильное эстетическое чутье; не за то, что он был придворным, а за то, что в то время, когда Наполеон чистил огромные авгиевы конюшни Германии, он мог с торжественной серьезностью заниматься ничтожнейшими делами и menus plaisirs{76} одного из ничтожнейших немецких крохотных дворов. Мы вообще не делаем упреков Гёте ни с моральной, ни с партийной точки зрения, а упрекаем его разве лишь с эстетической и исторической точки зрения; мы не измеряем Гёте ни моральной, ни политической, ни «человеческой» меркой. Мы не можем здесь заняться изображением Гёте в связи со всей его эпохой, с его литературными предшественниками и современниками, изобразить его в развитии и в связи с его общественным положением. Мы ограничиваемся поэтому лишь тем, что просто констатируем факт.
Мы увидим, с какой из указанных сторон произведения Гёте являются «подлинным кодексом человечества», «совершенной человечностью», «идеалом человеческого общества».
Обратимся сначала к гётевской критике существующего общества, чтобы затем перейти к положительному изложению «идеала человеческого общества». Само собой понятно, что, ввиду богатства содержания книги Грюна, мы сможем привести в обоих случаях лишь несколько наиболее характерных блестящих мест.
Гёте в качестве критика общества действительно совершает чудеса. Он «проклинает цивилизацию» (стр. 34–36), высказав несколько романтических сетований по поводу того, что цивилизация стирает в человеке все характерное, индивидуальное. Он «предсказывает мир буржуазии» (стр. 78), изобразив в «Прометее» tout bonnement{77} возникновение частной собственности. Он — на стр. 229 — «судья мира… Минос цивилизации». Но все это лишь мелочи.
На стр. 253 г-н Грюн цитирует «За чтением катехизиса»:
Откуда у тебя, дитя, дары все эти?
Ведь без источника нет ничего на свете. —
Да что ж, я их от папы получил. —
А папа от кого? — От дедушки. — Но дал их
Кто ж деду твоему? — Он взял их.
Ура! — во весь голос кричит г-н Грюн, la propriete c’est le vol{78} — вот настоящий Прудон!
Леверье со своей планетой может отправляться восвояси и уступить свой орден гну Грюну, так как здесь перед нами нечто большее, чем открытие Леверье, большее даже, чем открытие Джэксона и пары серного эфира. Кто свел значение лишившей покоя многих мирных буржуа фразы Прудона о краже к безобидным ямбам приведенной выше гётевской эпиграммы, заслуживает ленты большого креста Почетного легиона.
«Гражданин-генерал» доставляет уже больше хлопот. Г-н Грюн оглядывает его некоторое время со всех сторон, вопреки своему обыкновению делает несколько скептических гримас, становится озабоченным: «конечно… довольно безвкусно… революция этим не осуждается» (стр. 150)… Стоп! Он-таки нашел, о каком предмете здесь идет речь! О горшке молока. Итак: «не забудем… что это опять… вопрос о собственности, выдвинувшийся на первый план» (стр. 151).
Когда на улице, на которой живет г-н Грюн, две старухи ссорятся из-за селедочной головки, пусть г-н Грюн не сочтет за труд спуститься из своей «пахнущей розами и резедой» комнаты и известить их, что и у них дело идет о «вопросе о собственности, который выдвинулся на первый план». Благодарность всех благомыслящих людей будет для него лучшей наградой.
Один из величайших критических подвигов совершил Гёте, когда написал «Вертера». «Вертер» отнюдь не простой сентиментальный роман с любовной фабулой, как это думали до сих пор те, кто читал Гёте «с человеческой точки зрения».
В «Вертере» «человеческое содержание нашло для себя такую адекватную форму, что ни в какой литературе мира нельзя найти ничего, что заслуживало бы быть поставленным хоть в какой-то мере рядом с ним* (стр. 96). «Любовь Вертера к Лотте — лишь рычаг, лишь носитель трагедии радикального чувственного пантеизма… Вертер — это человек, которому недостает позвоночной кости, который не стал еще субъектом» (стр. 93, 94). Вертер застрелился не из-за своей влюбленности, а «потому, что он — о, злополучное пантеистическое сознание — не мог уяснить своих взаимоотношений с миром» (стр. 94). «В «Вертере» с художественным мастерством выявляется все гниение общества, показаны глубочайшие корни социальных недугов, их религиозно-философская основа» (эта «основа», как известно, гораздо более позднего происхождения, чем «недуги»), «сопровождающая их нечеткость, туманность познания… Чистые, профильтрованные понятия об истинной человечности» (но прежде всего позвоночная кость, г-н Грюн, позвоночная кость!) «означали бы также гибель того убожества, того насквозь изъеденного червями порядка, который именуется обыденной жизнью».
Вот пример того, как «в «Вертере» с художественным мастерством» выявляется «гниение общества», Вертер пишет:
«Авантюры? Зачем употребляю я это глупое слово?.. Наша обыденная жизнь, наши ложные отношения — вот настоящие авантюры, вот что чудовищно!»[105]
Этот вопль отчаяния мечтательного плаксы по поводу пропасти между бюргерской действительностью и своими, не менее бюргерскими, иллюзиями относительно этой действительности, эти жалкие, основанные исключительно на отсутствии элементарного опыта, вздохи г-н Грюн на стр. 84 выдает за острую и глубокую критику общества. Г-н Грюн утверждает даже, что выраженная в вышеприведенных словах «безысходная мука жизни, эта болезненная потребность всякую вещь ставить на голову, чтобы она хоть один раз приняла иной облик» (!), «в конце концов проложили для себя русло французской революции». Революция, в которой выше усматривалось осуществление макиавеллизма, становится здесь лишь осуществлением страданий молодого Вертера. Гильотина, воздвигнутая на площади Революции, оказывается не чем иным, как жалким плагиатом вертеровского пистолета.
После этого не приходится удивляться, что Гёте и в «Стелле», как указывается на стр. 108, обработал «социальный материал»,