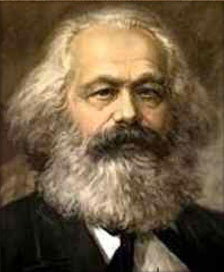в Берлине и Вене? После смерти Роберта Блюма ни один человек не интересовался больше жизнью благородного Гагерна. После образования министерства Бранденбурга — Мантёйфеля ни один черт не интересовался больше каким-то Шмерлингом. Господа профессора, которые «делали историю» для своего личного удовольствия, должны были допустить бомбардировку Вены, убийство Роберта Блюма, варварство Виндишгреца! Господа, которые так пеклись об истории немецкой культуры, предоставили какому-то Елачичу и его хорватам применять культуру на практике! Пока профессора создавали теорию истории, история продолжала свой бурный бег, совершенно не заботясь об истории господ профессоров.
Постановление, принятое третьего дня, уничтожило Франкфуртский парламент. Это постановление бросило Франкфуртский парламент в объятия государственного преступника Бранденбурга. Франкфуртский парламент совершил государственную измену и должен быть предан суду. Если весь народ восстает с протестом против акта королевского произвола, если этот протест осуществляется абсолютно законным путем, путем отказа от уплаты налогов, а собрание профессоров, без всякого на то права, объявляет этот отказ от уплаты налогов, это восстание всего народа противозаконным, то это собрание ставит себя вне закона, оно совершает государственную измену.
Долг всех членов Франкфуртского собрания, которые голосовали против такого решения, выйти из состава этого «в бозе почившего Союзного сейма». Долг всех демократов избрать утих вышедших из парламента «пруссаков» членами германского Национального собрания в Берлине вместо выбывших «немцев». Национальное собрание в Берлине не является «частью», оно есть целое, так как оно правомочно принимать решения. Бранденбургское же собрание во Франкфурте станет «частью», так как к 150 депутатам, выход которых из парламента стал необходимостью, безусловно присоединятся еще многие другие депутаты, которые не захотят участвовать в учреждении франкфуртского Союзного сейма. Франкфуртский парламент! Он боится красной республики и декретирует красную монархию! Мы не хотим красной монархии, мы не хотим, чтобы окрашенная в алый цвет корона Австрии простерла свою власть над Пруссией, и поэтому заявляем, что германский парламент совершил государственную измену! Впрочем, мы оказываем ему слишком много чести; мы придаем ему политическое значение, которое он давно утратил. Франкфуртскому парламенту уже вынесен самый суровый приговор: игнорирование его постановлений и — забвение.
Написано К. Марксом 22 ноября. 1848 г.
Кёльн, 22 ноября. Мы предсказывали кёльнскому магистрату, что он получит пинки в ответ на петицию, направленную им королю {См. настоящий том, стр. 37–38. Ред.}. Мы ошиблись. Магистрат, правда, получил пинки, но не от короля, а от Мантёйфеля — Бранденбурга. Tant pisi {Тем хуже! Ред.}. Мы говорили далее, что после постановления Франкфуртского парламента долг левых — выйти из его состава {См. настоящий том, стр. 45. Ред.}. Как мы узнали, вышли не только левые, но и левый центр для того, чтобы организовать демократический Центральный комитет. Tant mieux! {Тем лучше! Ред.}
Осадное положение повсюду — таковы достижения мартовской революции. Дюссельдорф на осадном положений! Город осаждают для того, чтобы его завоевать. Все города Пруссии один за другим объявляются на осадном положении для того, чтобы их снова завоевывать. Вся Пруссия должна быть вновь завоевана, так как вся Пруссия возмутилась против Пруссии. Каким образом осуществляется осадное положение? Путем разоружения граждан. Каким образом можно вторично объявить на осадном положении такой город как Кёльн, если он уже разоружен? Вернув ему сперва оружие. Объявить Кёльн вторично на осадном положении — это значит дать Кёльну оружие. Да здравствует осадное положение!
Написано К. Марксом 22 ноября 1848 г.
Напечатано в экстренном выпуске «Neue Rheinische Zeitung» № 150, 23 ноября 1848 г.
ГЕРМАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ[56]И ШВЕЙЦАРИЯ
Кёльн, 24 ноября. В комедиях прошлого столетия, особенно во французских, непременно фигурировал слуга, увеселяющий публику тем, что он ежеминутно получает колотушки, тумаки, а в наиболее эффектных сценах — даже пинки ногой. Роль такого слуги, разумеется, неблагодарна, но она кажется завидной в сравнении с той ролью, которая разыгрывается на сцене нашего франкфуртского имперского театра, — в сравнении с ролью имперского министра иностранных дел. Слуги в комедиях обладают, по крайней мере, одним средством отомстить за себя — остроумием. А имперский министр!
Будем справедливы. 1848 год ни одному из министров иностранных дел не приносит роз. Пальмерстон и Нессельроде были до сих пор довольны тем, что их оставляли в покое. Напыщенный Ламартин, который своими манифестами вызывал слезы даже у немецких старых дев и вдов, должен был с поломанными и потрепанными крыльями сойти, пристыженный, со сцены. Его преемник Бастид, который всего лишь год тому назад, в качестве официального глашатая войны, изливал в «National» и мало известной «Revue nationale»[57] добродетельное возмущение по поводу трусливой политики Гизо, теперь проливает по вечерам тихие слезы при чтении своего oeuvres completes de la veille {полного собрания вчерашних сочинений. Ред.} и при горькой мысли, что он сам с каждым днем все больше опускается до уровня Гизо добропорядочной республики. Все-таки у этих министров имеется одно утешение: если в большом они не могли похвастаться успехами, то в малом — в датском, сицилийском, аргентинском, валашском и других отдаленных вопросах — они могли взять реванш. Даже прусский министр иностранных дел г-н Арним, когда он заключал неприятное перемирие с Данией, испытывал то удовлетворение, что он не только был обманут, но и сам обманул кое-кого, — и этим обманутым оказался… имперский министр!
В самом деле, имперский министр иностранных дел, единственный из всех, играл совершенно пассивную роль, получая удары, но никому решительно их не раздавая. С первого дня своего вступления в должность он служил излюбленным козлом отпущения, на которого все его коллеги из соседних государств изливали свою желчь, на котором все они вымещали мелкие неприятности дипломатической жизни, выпадавшие в той или иной мере на долю каждого из них. И когда его били и терзали, он не раскрывал рта, подобно агнцу, ведомому на заклание. Может ли кто-либо сказать, что имперский министр хоть пальцем его тронул? Поистине, германская нация никогда не забудет, что г-н Шмерлинг с такой решительностью и последовательностью отважился восстановить традиции былой Священной Римской империи.
Нужно ли нам еще удостоверять мужественное терпение, проявленное г-ном фон Шмерлингом, перечислением его дипломатических успехов? Нужно ли нам возвращаться к путешествию г-на Макса Гагерна из Франкфурта в Шлезвиг, к этому достойному повторению путешествия блаженной памяти Софии из Мемеля в Саксонию?[58] Нужно ли нам снова вытаскивать на свет всю назидательную историю датского перемирия? Нужно ли нам останавливаться на неудачном предложении посредничества в Пьемонте и на дипломатической поездке г-на Хекшера с познавательной целью на имперский счет? В этом нет нужды. Факты слишком свежи в памяти и слишком красноречивы, чтобы нужно было хотя бы упоминать о них.
Но все имеет свои границы, и, в конце концов, даже самый терпеливый человек должен когда-нибудь показать, что и у него есть зубы, — говорит немецкий обыватель. Верный этому правилу класса, который наши почтенные государственные мужи объявляют громадным благонамеренным большинством Германии, г-н фон Шмерлинг наконец тоже ощутил потребность показать, что и у него есть зубы. Агнец, обреченный на заклание, стал искать козла отпущения и решил, что нашел его, наконец, в лице Швейцарии. Швейцария — каких-нибудь два с половиной миллиона жителей, вдобавок республиканцев, прибежище, откуда Геккер и Струве вторглись в Германию[59] и сильно встревожили новую Священную Римскую империю, — разве можно найти лучший и вместе с тем более безопасный случай доказать, что «великая Германия» зубаста?
Немедленно была отправлена «энергичная» нота в главный кантон[60] Берн по поводу происков эмигрантов. Однако главный кантон Берн в сознании своей правоты не менее энергично ответил «великой Германии» от имени «маленькой Швейцарии». Это отнюдь не испугало г-на Шмерлинга. Он поразительно быстро стал еще более зубастым, и уже 23 октября была составлена новая, еще «более энергичная» нота, которая 2 ноября была вручена Берну. На этот раз г-н Шмерлинг уже грозил неблагонравной Швейцарии розгами. Берн, еще более быстрый в своих действиях, чем имперский министр, ответил уже через два дня с таким же спокойствием и твердостью, как и раньше, и г-н Шмерлинг должен теперь, следовательно, пустить в ход свои «распоряжения и меры» против Швейцарии. Он уже самым серьезным образом занят этим, как это было им заявлено во Франкфуртском собрании.
Если бы эта угроза представляла собой обычный имперский фарс, каких мы уже так много видывали в этом году, мы не стали бы тратить по этому поводу ни одного слова. Но так как совершенно невозможно преувеличить недомыслие наших имперских Дон-Кихотов или, вернее, имперских Санчо в управлении иностранными делами их острова Баратария, то легко может случиться, что вследствие этого столкновения с Швейцарией мы навлечем на себя различные новые осложнения. Quid-quid delirant reges и т. д.[61]
Ознакомимся поэтому несколько подробнее с имперской нотой Швейцарии.
Известно, что швейцарцы плохо говорят по-немецки и немногим лучше пишут на этом языке. Но ответная нота главного кантона со стороны стиля представляет собой законченный шедевр, достойный пера Гёте, по сравнению с школярским, неуклюжим, не находящим нужных выражений немецким языком имперского министерства. Швейцарский дипломат (как говорят, союзный канцлер Шисс) как будто нарочно писал особенно чистым, плавным и изысканным стилем, чтобы и в этом отношении составить иронический контраст ноте имперского регента, которая наверняка не могла бы быть написана хуже даже какой-нибудь красной епанчой Елачича. В имперской ноте встречаются фразы, которые совсем невозможно понять, встречаются, как мы увидим дальше, и в высшей степени неуклюжие фразы. Но разве как раз эти фразы не написаны «на языке прямодушия, которое правительство имперского регента всегда будет вменять себе в обязанность в международных сношениях»?
Не лучше обстоит дело у г-на Шмерлинга и в отношении содержания. В первом же абзаце он напоминает
«о том факте, что по поводу германской ноты от 30 июня с. г. на заседаниях Союзного сейма в течение нескольких недель, еще до ответа на эту ноту, дебаты велись в таком тоне, который сделал бы пребывание представителя Германии в Швейцарии тогда невозможным» (вот вам образец стиля!)[62].
Главный кантон достаточно добродушен — он доказывает «правительству имперского регента» на основании протоколов Союзного сейма, что эти дебаты, «продолжавшиеся несколько педель», ограничиваются одним-единственным коротким заседанием в течение одного-единственного дня. Мы видим, что наш имперский министр, вместо того, чтобы справиться по документам, предпочитает доверять своей сбивчивой памяти. Мы найдем еще немало доказательств этого.
Впрочем, правительство имперского регента может видеть в