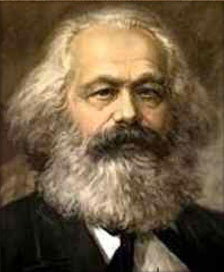преисполнены безграничным чувством гордости оттого, что они были венцом творения, берлинская революция 1848 года кичилась тем, что она представляла собой анахронизм. Ее свет был подобен свету далеких звезд, который доходит до нас, жителей Земли, спустя 100000 лет после того, как погасло излучавшее его светило. Прусская мартовская революция представляла в миниатюре — она вообще все представляла в миниатюре — подобную звезду для Европы. Ее свет был светом, который излучало давно уже истлевшее общество.
Немецкая буржуазия развивалась так вяло, трусливо и медленно, что в тот момент, когда она враждебно противостояла феодализму и абсолютизму, она сама оказалась враждебно противостоящей пролетариату и всем слоям городского населения, интересы и идеи которых были родственны пролетариату. Она увидела во враждебной позиции по отношению к себе не только класс позади себя, но и всю Европу перед собой. В отличие от французской буржуазии 1789 года прусская буржуазия не была тем классом, который выступает от имени всего современного общества против представителей старого общества, монархии и дворянства. Она опустилась до уровня какого-то сословия, обособленного как от короны, так и от народа, оппозиционно настроенного по отношению к ним обоим, нерешительного по отношению к каждому из своих противников в отдельности, так как она всегда видела их обоих впереди или позади себя; она с самого начала была склонна к измене народу и к компромиссу с коронованным представителем старого общества, ибо она сама уже принадлежала к старому обществу; она представляла не интересы нового общества против старого, а обновленные интересы внутри устаревшего общества; она стояла у руля революции не потому, что за ней стоял народ, а потому, что народ толкал ее впереди себя; она находилась во главе не потому, что представляла инициативу новой общественной эпохи, а только потому, что выражала недовольство старой общественной эпохи; то был пласт старого государства, который сам не пробил себе дороги, по силой землетрясения был выброшен на поверхность нового государства; без веры в себя, без веры в народ, брюзжа против верхов, страшась низов, эгоистичная по отношению к тем и другим и сознающая свой эгоизм, революционная по отношению к консерваторам и консервативная по отношению к революционерам; не доверяющая своим собственным лозунгам, с фразами вместо идей, боящаяся мирового урагана и эксплуатирующая его в свою пользу; лишенная всякой энергии, представляющая собой сплошной плагиат, она пошла, потому что в ней нет ничего оригинального, она оригинальна в своей пошлости, она торгуется сама с собой, без инициативы, без веры в себя, без веры в народ, без всемирно-исторического призвания — точно старик, над которым тяготеет проклятье, осужденный на то, чтобы извращать первые молодые порывы полного жизни народа и подчинять их своим старческим интересам — старик без глаз, без ушей, без зубов, полная развалина, — такой очутилась прусская буржуазия после мартовской революции у руля прусского государства.
III
Кёльн, 15 декабря. Теория соглашения, которую буржуазия, достигшая власти в лице министерства Кампгаузена, немедленно провозгласила в качестве «самой широкой» основы прусского contrat social {общественного договора. Ред.}, отнюдь не была пустой теорией; напротив, она выросла на древе «золотой» жизни.
Мартовская революция отнюдь не подчинила суверена божьей милостью суверенитету народа. Она только заставила корону, абсолютистское государство, пойти на сговор с буржуазией, вступить в соглашение со своим старым соперником.
Корона пожертвует для буржуазии дворянством, буржуазия пожертвует для короны народом. При этом условии монархия станет буржуазной, а буржуазия монархической.
После марта существуют только эти две силы. Они служат друг другу в качестве громоотвода революции. Все это, разумеется, на «самой широкой демократической основе».
В этом заключался секрет теории соглашения.
Торговцам маслом и шерстью[107], которые образовали первое министерство после мартовской революции, понравилась их роль — прикрывать обнаженную корону полами своей плебейской одежды. Они испытывали величайшее наслаждение при мысли о том, что получат доступ ко двору и что, отрекаясь скрепя сердце из чистого великодушия от своей суровой римской позы — римской позы Соединенного ландтага, — они принесут в жертву свою былую популярность, чтобы заполнить ею пропасть, которая угрожает поглотить корону. Как важничал министр Кампгаузен в роли повивальной бабки конституционного трона! Сей муж был явно тронут самим собой и своим собственным великодушием. Корона и ее окружение скрепя сердце терпели это унизительное покровительство и делали bonne mine a mauvais jeu {хорошую мину при плохой игре. Ред.} в ожидании лучших времен.
Полуразложившаяся армия, дрожащая за свои должности и оклады бюрократия, присмиревшее феодальное сословие, вождь которого отправился в конституционное путешествие с познавательной целью, легко при помощи нескольких сладких слов и реверансов одурачили bourgeois gentilhomme {мещанина во дворянстве. Ред.}.
Прусская буржуазия номинально обладала властью, она ни минуты не сомневалась в том, что силы старого государства без всяких задних мыслей предоставили себя в ее распоряжение и все без исключения превратились в покорных приверженцев ее собственного всемогущества.
Этой химерой была опьянена буржуазия не только в министерстве, но и в пределах всей монархии.
Единственными геройскими подвигами прусской буржуазии после марта были выступления, нередко кровавые, гражданского ополчения против безоружного пролетариата; разве эти подвиги не нашли добровольных и преданных пособников в лице армии, бюрократии и даже феодалов? Единственные усилия, на которые оказались способны местные представители буржуазии, общинные советы, — навязчивый и подлый сервилизм которых был позже по заслугам растоптан сапогом Виндишгрецев, Елачичей и Вельденов, — единственные геройские подвиги этих общинных советов после мартовской революции заключались в их патриархально-суровых предостережениях по адресу народа; разве они не были встречены с почтительным изумлением онемевшими регирунгспрезидентами и притихшими дивизионными генералами? Могла ли прусская буржуазия сомневаться после этого в том, что старая вражда армии, бюрократии, феодалов растворилась в их почтительной преданности буржуазии — этому великодушному победителю, обуздывающему самого себя и анархию?
Положение было ясно. Перед прусской буржуазией была теперь только одна задача: поудобнее устроиться у власти, устранить мешающих анархистов, восстановить опять «спокойствие и порядок» и собрать налоги, не взысканные во время мартовской бури. Речь могла идти еще только о том, чтобы сократить до минимума издержки производства буржуазной власти и обусловившей ее мартовской революции. Оружие, которое прусская буржуазия в своей борьбе против феодального общества и короны вынуждена была потребовать себе от имени народа — право союзов, свобода печати и т. д., — разве не надо было сломать это оружие, находившееся в руках обманутого народа, которому оно уже не нужно было для борьбы за буржуазию и который обнаруживал опасное намерение пустить его в ход против нее?
Буржуазия была убеждена в том, что на пути к соглашению ее с короной, на пути к сделке буржуазии со старым, покорившимся своей участи государством стояло явно только лишь одно препятствие, одно-единственное препятствие, народ — puer robustus sed malitiosus, как говорил Гоббс[108]. Народ и революция!
Революция представляла законное основание прав народа; на основании революции он предъявлял свои буйные притязания. Революция была векселем, переведенным народом на буржуазию. Благодаря революции буржуазия пришла к власти. В день прихода ее к власти исполнился срок платежа по этому векселю. Буржуазия должна была опротестовать этот вексель.
Революция — это означало в устах народа следующее: вы, буржуазия, составляете Comite du salut public, Комитет общественного спасения, в руки которого мы передаем власть не для того, чтобы вы заключили соглашение с короной в ваших интересах, а для того, чтобы вы отстояли против воли короны наши интересы, интересы народа.
Революция была протестом народа против соглашения буржуазии с короной. Поэтому буржуазия, вступающая в соглашение с короной, должна была протестовать против — революции.
И это произошло при великом Кампгаузене. Мартовская революция не была признана. Берлинское национальное представительство, отклонив предложение о признании мартовской революции, конституировалось как представительство прусской буржуазии, как собрание соглашателей.
Это Собрание объявило совершившееся несовершившимся. Оно громогласно заявило перед лицом прусского народа, что народ не объединялся с буржуазией для того, чтобы устроить революцию против короны, а что он устраивает революцию для того, чтобы объединить против себя самого корону с буржуазией! Так было уничтожено законное основание прав революционного народа и обретена почва законности для консервативной буржуазии.
Почва законности!
Брюггеман и в его лице «Kolnische Zeitung» так много болтали, измышляли и хныкали по поводу «почвы законности», столько раз теряли и находили вновь, разрушали и чинили эту «почву законности», перебрасывали ее из Берлина во Франкфурт и из Франкфурта в Берлин, суживали и расширяли, превращали из простой почвы в паркетный пол, из паркетного пола в двойное дно (как известно, главное орудие балаганных фокус-пиков), а из двойного дна в бездонную ловушку, что почва законности в конце концов законно превратилась для наших читателей в почву «Kolnische Zeitung»; они могут спутать девиз прусской буржуазии с личным девизом г-на Йозефа Дюмона, необходимую идею прусской мировой истории — с произвольной навязчивой идеей «Kolnische Zeitung» и видеть в почве законности только ту почву, на которой произрастает «Kolnische Zeitung».
Почва законности, и притом прусская почва законности!
Но что же такое эта почва законности, на которой после марта находятся рыцарь больших дебатов Кампгаузен, вновь воскрешенный призрак Соединенного ландтага и собрание соглашателей, — есть ли это конституционный закон 1815 г., или закон о ландтагах 1820 г., или рескрипт 1847 г., или же избирательный и согласительный закон от 8 апреля 1848 года[109]?
Ничего подобного.
«Почва законности» означала просто, что революция не обрела своей почвы, а старое общество не утратило своей почвы, что мартовская революция была только «происшествием», давшим «толчок» к давно уже подготовлявшемуся в недрах старого прусского государства «сговору» между троном и буржуазией, потребность в котором сама корона уже признала в своих прежних высочайших указах и только считала его до марта но «неотложным». Словом, «почва законности» означала, что буржуазия хочет после марта вести переговоры с короной на тех же самых основаниях, как и до марта, как будто никакой революции не произошло, как будто Соединенный ландтаг без революции достиг своей цели. «Почва законности» означала, что законное основание прав народа, революция, отсутствует в contrat social, заключенном между правительством и буржуазией. Буржуазия выводила свои притязания из старопрусского