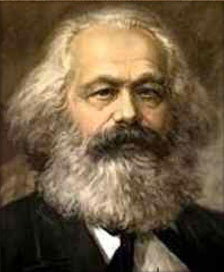подобно тому как до июньского восстания национальные мастерские были организованной боевой силой революционного пролетариата. Подобно тому как Исполнительная комиссия Конституанты, решившись покончить со ставшими невыносимыми для нее требованиями пролетариата, грубо обрушилась на национальные мастерские, так министерство Бонапарта, решившись покончить со ставшими невыносимыми требованиями республиканской фракции буржуазии, обрушилось на мобильную гвардию. Оно постановило распустить мобильную гвардию. Одна половина ее была уволена и выброшена на мостовую, другая — получила новую организацию, монархическую, взамен демократической, а жалованье ее было понижено до уровня обыкновенного жалованья линейных войск. Мобильная гвардия очутилась в положении июньских инсургентов, и в газетах ежедневно стали появляться публичные покаяния мобилей, в которых они признавали вину, допущенную ими в июне, и умоляли пролетариат о прощении.
А клубы? С того момента, как Учредительное собрание, выразив недоверие Барро, проявило в его лице недоверие президенту, в лице президента — учрежденной буржуазной республике, а в ее лице — буржуазной республике вообще, вокруг Собрания по необходимости сплотились все учредительные элементы февральской республики, все партии, которые желали свергнуть существующую республику и насильственно вернуть ее в прежнее состояние, превратить ее в республику, выражающую их собственные классовые интересы и принципы.
То, что произошло, как будто и не происходило; то, что выкристаллизовалось из революционного движения, снова растворилось; борьба опять завязалась за неопределенную республику февральских дней, контуры которой каждая партия определяла по-своему. На мгновение партии опять заняли свои старые февральские позиции, не разделяя, однако, февральских иллюзий. Трехцветные республиканцы «National» снова стали опираться на демократических республиканцев «Reforme», снова выдвинули их в качестве застрельщиков на авансцену парламентской борьбы. Демократические республиканцы снова стали опираться на социалистических республиканцев (27 января публичный манифест возвестил об их примирении и объединении) и подготовляли в клубах почву для своей инсуррекционной борьбы. Министерская печать справедливо увидела в трехцветных республиканцах «National» воскресших июньских инсургентов. Чтобы удержаться во главе буржуазной республики, они поставили под вопрос самое буржуазную республику. 26 января министр Фоше внес закон о праве союзов, первый параграф которого гласил: «Клубы воспрещаются». Он предложил немедленно же начать обсуждение этого законопроекта, как не терпящего отлагательства. Конституанта отвергла вопрос о неотложности, а 27 января Ледрю-Роллен внес подписанное 230 депутатами предложение о предании министерства суду за нарушение конституции. Предание министерства суду в такие моменты, когда это означало либо бестактное обнаружение бессилия судьи, т. е. большинства палаты, либо бессильный протест обвинителя против самого этого большинства, — вот тот великий революционный козырь, который эта Гора-последыш с тех пор стала пускать в ход во всякий решительный момент кризиса. Бедная Гора, раздавленная тяжестью своего собственного имени!
Бланки, Барбес, Распайль и другие пытались 15 мая разогнать Учредительное собрание, ворвавшись во главе парижского пролетариата в зал его заседаний. Барро готовил тому же Собранию моральное повторение 15 мая, намереваясь продиктовать его самораспущение и запереть зал его заседаний. Это самое Собрание в свое время поручило Барро начать следствие против виновников майских событий; теперь же, когда Барро стал играть по отношению к нему роль роялистского Бланки, а оно стало искать союзников против него в клубах, у революционного пролетариата, у партии Бланки, — теперь беспощадный Барро начал пытать его своим предложением изъять майских пленников из суда присяжных и предать их изобретенному партией «National» верховному суду — haute cour. Замечательно, как страх за министерский портфель сумел извлечь из головы нашего Барро перлы остроумия, достойные Бомарше! После долгого колебания Собрание приняло его предложение. В отношении к майским инсургентам оно вновь обрело свой нормальный характер.
Если в борьбе против президента и министров Конституанта вынуждена была стать на путь восстания, то в борьбе против Конституанты президент и министры вынуждены были стать на путь государственного переворота, так как у них не было никакой законной возможности распустить ее. Но Конституанта была матерью конституции, а конституция — матерью президента. Путем государственного переворота президент упразднял конституцию, а вместе с ней свою республиканскую правовую основу. Ему оставалось тогда выдвинуть свои императорские права; но императорские права вызывали к жизни орлеанистские, а те и другие стушевывались перед легитимистскими правами. Падение законной республики могло вызвать торжество лишь ее антипода, легитимной монархии, так как в этот момент орлеанисты были только побежденными февральских дней, а Бонапарт был только победителем 10 декабря, и обе партии могли противопоставить республиканской узурпации лишь свои точно так же узурпированные у монархии права. Легитимисты сознавали, что положение дел им благоприятствует, они конспирировали средь бела дня. Они могли надеяться найти в генерале Шангарнье своего Монка[28]. Близость белой монархии так же открыто возвещалась в их клубах, как в клубах пролетариев — близость красной республики.
Успешно подавленное восстание избавило бы министерство от всех затруднений. «Законность нас убивает!» — воскликнул Одилон Барро. Восстание позволило бы распустить Конституанту под предлогом salut public {общественного спасения. Ред.} и нарушить конституцию ради самой же конституции. Грубое выступление Одилона Барро в Национальном собрании, предложение о закрытии клубов, нашумевшее отрешение от должности 50 трехцветных префектов и их замещение роялистами, роспуск мобильной гвардии, оскорбительное обращение Шангарнье с ее начальниками, возвращение кафедры профессору Лерминье, который уже при Гизо считался неприемлемым, терпимость по отношению к выходкам легитимистов — все это имело целью вызвать восстание. Но восстание безмолвствовало. Оно ожидало сигнала от Конституанты, а не от министерства.
Наконец, настало 29 января, день, в который должно было обсуждаться предложение Матьё де ла Дром о безусловном отклонении предложения Рато. Легитимисты, орлеанисты, бонапартисты, мобильная гвардия, Гора, клубы — каждый конспирировал в этот день, конспирировал столько же против своего мнимого врага, сколько и против своего мнимого союзника. Бонапарт, верхом на коне, производил смотр части войск на площади Согласия, Шангарнье актерствовал, производя эффектные стратегические маневры, Конституанта нашла здание своих заседаний окруженным войсками. Центр всех перекрещивающихся надежд, опасений, ожидании, брожений, напряжений, заговоров — Собрание, храброе, как лев, не поколебалось ни на минуту в этот более чем когда-либо серьезный для него всемирно-исторический момент. Оно поступило, как тот борец, который не только боялся употребить в дело свое собственное оружие, но чувствовал себя обязанным сохранить в целости оружие своего противника. С презрением к смерти подписало оно свой собственный смертный приговор и отвергло безусловное отклонение предложения Рато. Очутившись само в осадном положении, оно положило предел своей учредительной деятельности, необходимым обрамлением которой было осадное положение Парижа. Его месть была достойна его; на другой день оно назначило следствие по поводу страха, который министерство нагнало на него 29 января. Гора обнаружила недостаток революционной энергии и политического смысла, позволив партии «National» использовать себя в качестве глашатая в этой великой комедии интриг. Партия «National» сделала последнюю попытку удержать за собой в учрежденной уже буржуазной республике монополию власти, которой она обладала в период возникновения республики. Она потерпела фиаско.
Если в январском кризисе дело шло о существовании Конституанты, то в кризисе 21 марта стоял вопрос о существовании конституции; в первом случае дело шло о персонале партии «National», во втором — о ее идеале. Разумеется, «добропорядочные» республиканцы дешевле продали свою заоблачную идеологию, чем земное обладание правительственной властью.
21 марта в порядке дня Национального собрания стоял законопроект Фоше, направленный против права союзов: насильственное закрытие клубов. Статья 8 конституции гарантирует всем французам право союзов. Запрещение клубов было, следовательно, явным нарушением конституции, и самой Конституанте предстояло санкционировать осквернение своей святыни. Но ведь клубы были сборными пунктами революционного пролетариата, ареной его конспиративной деятельности. Само
Национальное собрание воспретило коалиции рабочих против своих буржуа. А чем были клубы, как не коалицией всего рабочего класса против всего буржуазного класса, как не организацией особого рабочего государства, направленного против буржуазного государства? Разве все они не были учредительными собраниями пролетариата, разве все они не были готовыми к бою отрядами армии восстания? Конституция первым делом должна была конституировать господство буржуазии; стало быть, под правом союзов она, очевидно, подразумевала существование только тех союзов, которые совместимы с господством буржуазии, т. е. с буржуазным строем. Если конституция, соблюдая приличия по отношению к теории, ограничивалась общими формулами, то разве не было правительства и Национального собрания, чтобы толковать ее и применять в отдельных случаях? И если уж в первобытную эпоху республики клубы фактически были воспрещены благодаря осадному положению, то неужели их нельзя воспретить на законном основании в упорядоченной, учрежденной республике? Трехцветные республиканцы могли выдвинуть против такого прозаического толкования конституции только напыщенную фразеологию конституции. Часть их, Паньер, Дюклер и другие, голосовала за министерство и таким образом доставила ему большинство. Другая часть, с архангелом Кавеньяком и отцом церкви Маррастом во главе, после принятия статьи о воспрещении клубов удалилась вместе с Ледрю-Ролленом и Горой в помещение одной из комиссий — и «держала совет». Национальное собрание было парализовано, оно уже не насчитывало законного числа голосов, необходимого для принятия решения. Тут г-н Кремьё во-время напомнил, сидя в помещении комиссии, что дорога отсюда ведет прямо на улицу и что теперь уже не февраль 1848 г., а март 1849 года. Партия «National», внезапно прозрев, вернулась в зал заседаний Национального собрания, а за ней — снова одураченная Гора, которая, постоянно мучимая революционными потугами, столь же постоянно искала конституционного исхода и чувствовала себя всегда все же больше на своем месте за спиной буржуазных республиканцев, чем впереди революционного пролетариата. Так закончилась эта комедия. Сама Конституанта постановила, что нарушение текста конституции является единственно верным толкованием ее смысла.
Осталось урегулировать еще один пункт: отношение учрежденной республики к европейской революции, ее внешнюю политику. 8 мая 1849 г. в Учредительном собрании, доживавшем свои последние дни, царило необычайное возбуждение. В порядке дня стояло нападение французской армии на Рим, отражение ее римлянами, ее политический позор и военное фиаско, предательское убийство Римской республики, совершенное Французской республикой, первый итальянский поход второго Бонапарта. Гора еще раз пустила в ход свой главный козырь: Ледрю-Роллен положил на стол председателя неизменный обвинительный акт против министерства, на этот раз направленный и против Бонапарта, по делу о нарушении конституции.
Мотив 8 мая повторился позднее в мотиве 13 июня. Посмотрим, чем была эта римская экспедиция.
Кавеньяк уже в середине ноября 1848 г. отправил военный флот в Чивита-Веккию, чтобы защитить папу, взять его на борт и перевезти во Францию. Папа должен был дать свое благословение «добропорядочной» республике и обеспечить избрание Кавеньяка