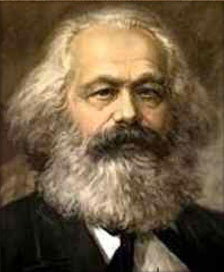в движении и что движение погибает, а вместе с движением и он сам, он стал кричать о предательстве и со всем возмущением обманутого простака обрушился на своего преданнейшего слугу.
Конечно, г-н Брентано тоже был обманут. Он надеялся, что участие в этом движении превратит его в великого человека «умеренной» партии, т. е. как раз мелкой буржуазии, а должен был под покровом ночи позорно бежать от своей собственной партии, от своих лучших друзей, которым внезапно открылась ужасная истина. Он даже надеялся сохранить за собой возможность занять министерский пост при великом герцоге, а в награду за свою мудрость получил пинки от всех партий и потерял возможность играть когда бы то ни было какую-либо роль. Но, конечно, можно быть умнее, чем все вместе взятые мелкие буржуа какого-нибудь немецкого карликового государства, и все-таки стать свидетелем того, как твои лучшие надежды терпят крушение, а самые благородные намерения забрасываются грязью!
С первого дня своего правления г-н Брентано делал все для того, чтобы удержать движение в мещанских рамках, из которых оно почти не пыталось выходить. Под охраной гражданского ополчения Карлсруэ, преданного великому герцогу, — того самого гражданского ополчения, которое еще за день до того сражалось против восставших, — он вступил в помещение палаты сословных представителей[86], чтобы оттуда сдерживать движение. Возвращение в строй дезертировавших солдат происходило с величайшей медлительностью, не быстрее производилась реорганизация батальонов. Зато немедленно вооружили мангеймских разоруженных мещан, о которых все знали, что они не будут сражаться, и которые после сражения при Вагхёйзеле даже присоединились в большинстве своем к драгунскому полку, предавшему Мангейм. О движении на Франкфурт или Штутгарт, о распространении восстания на Нассау или Гессен не было даже речи. Как только подобное предложение вносилось, оно немедленно отвергалось, как это было с предложением Зигеля. Предложение о выпуске бумажных денег было бы расценено как государственное преступление, как коммунистическое предложение. Из Пфальца посылали посла за послом; они сообщали, что Пфальц лишен вооружения, не имеет ни ружей, не говоря уже об артиллерии, ни боевых припасов и нуждается во всем, что необходимо для развития восстания и, в частности, для занятия крепостей Ландау и Гермерсгейма; но от г-на Брентано ничего нельзя было добиться. Пфальц предлагал немедленно учредить общее военное командование и даже объединить обе области под властью единого общего правительства. Но все эти меры оттягивались и тормозились. Единственное, чего Пфальц смог добиться, насколько я знаю, была небольшая денежная поддержка; впоследствии, когда было уже слишком поздно, прибыли восемь орудий с небольшим количеством боевых припасов, без прислуги и запряжки, и, наконец, по прямому приказу Мерославского, один баденский батальон и две мортиры, из которых одна, если память мне не изменяет, сделала один выстрел.
Это затягивание и отклонение необходимейших мероприятий, которые могли бы содействовать распространению восстания, уже означало предательство всего движения. Во внутренних вопросах господствовала та же бездеятельность. Об отмене феодальных повинностей не было и речи; г-н Брентано отлично знал, что среди крестьянства, особенно в Верхнем Бадене, таились более революционные элементы, чем это ему было угодно, и что поэтому он скорее должен был сдерживать их, чем втягивать глубже в движение. Новые чиновники были в большинстве своем креатуры Брентано или совершенно бездарные люди; все старые чиновники, за исключением тех, которые слишком скомпрометировали себя во время реакции последнего года и потому сами дезертировали, остались на своих местах, к великому восхищению всех мирных бюргеров. Даже г-н Струве в последних числах мая счел уместным похвалить «революцию» за то, что все обошлось так тихо и мирно и что почти все чиновники смогли остаться на своих местах. — В остальном г-н Брентано и его агенты действовали в том направлении, чтобы все по возможности вернулось в старую колею, чтобы как можно меньше было беспорядка и возбуждения и чтобы страна поскорее утратила свой революционный облик.
В военной организации господствовала та же рутина — делали только то, что невозможно было не делать. Войска оставались без командиров, без занятий, не было порядка; бездарный «военный министр» Эйхфельд и его преемник, предатель Майерхофер, не сумели даже обеспечить сносную дислокацию войск. Воинские эшелоны перебрасывались по железной дороге навстречу друг другу бесцельно и безрезультатно. Батальоны отводились сегодня в одном направлении, а завтра — в противоположном, и никто не знал зачем. В гарнизонах бойцы шатались по трактирам, так как другого дела у них не было. Казалось, что их умышленно хотят деморализовать, что правительство хочет совершенно вытравить у них последние следы дисциплины. Организация первого набора, так называемого народного ополчения, т. е. всех способных носить оружие мужчин до 30 лет, была поручена известному Иог. Ф. Беккеру, натурализованному швейцарцу и офицеру швейцарской армии. В какой мере Брентано чинил препятствия Беккеру в выполнении его миссии, я не знаю. Но мне известно, что, после отступления пфальцской армии на баденскую территорию, в тот момент, когда уже невозможно было больше отклонять настойчивые требования плохо одетых и плохо вооруженных пфальцских отрядов, Брентано умыл руки, произнеся следующие слова: «По мне, давайте им все, что хотите, но когда великий герцог вернется, пусть он, по крайней мере, знает, кто так растранжирил его запасы!» Поэтому, если баденское народное ополчение было частью плохо, частью совершенно не организовано, то главная вина, бесспорно, падает и здесь на Брентано, а также на злую волю или неумелость его комиссаров в отдельных округах.
Когда Маркс и я после насильственного прекращения выхода «Neue Rheinische Zeitung» впервые прибыли на баденскую территорию, — это было 20 или 21 мая, т. е. больше недели спустя после бегства великого герцога, — нас удивила величайшая беззаботность, с которой охранялась или, вернее, не охранялась граница. От Франкфурта до Хеппенгейма вся железная дорога была занята имперскими войсками, состоявшими из вюртембержцев и гессенцев; даже Франкфурт и Дармштадт были заполнены войсками; все вокзалы, все населенные пункты были заняты сильными отрядами; регулярные сторожевые посты были продвинуты вплоть до самой границы. Зато от границы до Вейнгейма не видно было ни одного человека; то же самое в Вейнгейме. В качестве единственной меры предосторожности разрушили небольшую часть железнодорожного пути между Хеппенгеймом и Вейнгеймом. Лишь во время нашего пребывания в Вейнгейме туда прибыл небольшой отряд лейб-полка — не более 25 человек. Между Вейнгеймом и Мангеймом опять-таки царил глубочайший мир. В лучшем случае там или сям появлялись отдельные народные ополченцы навеселе, более похожие на отставших или на дезертиров. Ни о каком пограничном контроле не было, разумеется, и речи. Можно было переходить границу в том или другом направлении, как заблагорассудится.
В Мангейме во всяком случае все выглядело несколько более по-военному. Кучки солдат стояли на улицах или сидели в трактирах; народное ополчение и гражданское ополчение производили учение в парке, большей частью, конечно, еще весьма неумело и под руководством плохих инструкторов. В ратуше заседали многочисленные комитеты, старые и новые офицеры, люди в военной форме и блузах. Народ смешивался с солдатами и волонтерами. Много пили, много смеялись, много ловеласничали. Но сразу было видно, что первый порыв уже прошел, что многие неприятно разочарованы. Солдаты были недовольны; мы устроили восстание, — говорили они, — а теперь, когда очередь за штатскими, которые должны взять на себя руководство, — теперь они все затягивают и тем губят дело. Солдаты были также не совсем довольны своими новыми офицерами; новые офицеры были в натянутых отношениях со старыми офицерами великого герцога, из которых многие были тогда еще налицо, хотя ежедневно несколько человек дезертировало; старые офицеры поневоле оказались в фатальном положении, из которого не знали, как выбраться. Наконец, повсюду раздавались жалобы на отсутствие энергичного и способного руководства.
На другом берегу Рейна, в Людвигсхафене, движение представилось нам в гораздо более благоприятном свете. В то время как в Мангейме множество молодых людей, явно принадлежавших к первому набору, еще спокойно занимались своими делами, как будто ничего не случилось, здесь все были вооружены. Правда, не везде в Пфальце, как позднее обнаружилось, дело обстояло таким образом. В Людвигсхафене господствовало полнейшее единодушие между волонтерами и солдатами. В трактирах, которые и здесь, конечно, были переполнены, звучала «Марсельеза» и другие подобные же песни. Здесь не жаловались и не ворчали, здесь смеялись, душой и телом были преданы движению и питали еще тогда — особенно стрелки и волонтеры — вполне простительные и невинные иллюзии насчет собственной непобедимости.
В Карлсруэ движение принимало уже более торжественный вид. В гостинице «Париж» обед был назначен на час дня, но его не начинали до тех пор, пока не появлялись «господа из Баденского комитета». Подобные мелкие признаки внимания уже придавали движению приятные бюрократические черты.
Мы высказали различным господам из Баденского комитета изложенный выше взгляд относительно того, что с самого начала следовало двинуться на Франкфурт и тем самым распространить восстание дальше, что теперь, по всей вероятности, слишком поздно делать это и что без решительных ударов в Венгрии или без новой революции в Париже все движение уже безнадежно потеряно. Трудно представить себе, какое возмущение вызвали подобные еретические утверждения среди этих бюргеров из Баденского комитета. Только Блинд и Гёгг были на нашей стороне. Теперь, когда события показали, что мы были правы, те же господа, разумеется, уверяют, будто они с самого начала настаивали на наступлении.
В Карлсруэ были тогда уже заметны первые зачатки той грандиозной погони за должностями, которая под столь же грандиозным титулом «концентрации всех демократических сил Германии» широковещательно преподносилась как спасение отечества. Всякий, кто хоть когда-нибудь более или менее путано декламировал в каком-нибудь клубе или призывал к ненависти против тиранов в какой-нибудь захолустной демократической газетке, спешил в Карлсруэ или в Кайзерслаутерн, чтобы немедленно сделаться там великим человеком. Незачем особенно подчеркивать, что дела, которые здесь вершились, вполне соответствовали сконцентрированным силам. — Так, здесь, в Карлсруэ, находился известный так называемый философский Атта Тролль, экс-депутат Франкфуртского собрания и экс-редактор так называемого демократического листка, закрытого Мантёйфелем, несмотря на заискивание нашего Атта Тролля[87]. Этот Атта Тролль с величайшим усердием добивался заурядного поста баденского посла в Париже, к которому он считал себя особенно призванным на том основании, что в свое время он прожил два года в Париже, не выучившись там французскому языку. Ему, действительно, посчастливилось получить от г-на Брентано верительную грамоту, и он уже укладывал свои чемоданы, когда Брентано неожиданно прислал за ним и