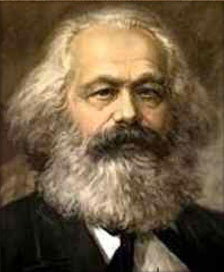свой пост нищим, раздавленным тяжестью долгов, а четыре недели спустя уже разгуливал, уплатив долги и владея к тому же суммой, которую даже в окрестностях Белгрейв-сквера[114] назвали бы приличным состоянием! Но иметь дело с крестьянством, с крупными земельными собственниками, с держателями государственных ценных бумаг, с банкирами, промышленниками, судовладельцами, коммерсантами, мелкими буржуа и, наконец, с наиболее грозным вопросом нашего века, с рабочим вопросом, — это было совсем другое дело. Несмотря на все меры, принятые правительством, чтобы принудить всех к молчанию, интересы различных классов все же оставались столь же противоположными, как и всегда, хотя больше уже не существовало ни печати, ни парламента, ни трибуны собраний, где можно было бы заявить об этом неприятном факте; таким образом, все, что бы правительство ни пыталось делать для одного класса, неизбежно задевало интересы другого. Что бы Луи-Наполеон ни предпринимал, перед ним всюду вставал вопрос: «Кто оплачивает счет?», — вопрос, который привел к свержению большее число правительств, чем все другие вопросы — о милиции, реформах и т. п., — вместе взятые. И хотя Луи-Наполеон уже заставил своего предшественника, Луи-Филиппа, оплатить добрую часть этих счетов[115], все же осталось еще много подлежащих оплате.
В дальнейшем мы приступим к обзору положения различных классов французского общества и выясним, имеются ли в распоряжении настоящего правительства средства для улучшения этого положения. В то же время мы рассмотрим, какие попытки были предприняты этим правительством и, вероятно, будут предприняты позже с этой целью, и таким образом соберем материалы, из которых можно будет вывести правильное заключение относительно положения и видов на будущее человека, который в настоящее время делает все от него зависящее, чтобы обесславить имя Наполеона.
К. МАРКС
ЗАЯВЛЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ «KOLNISCHE ZEITUNG»
Автор корреспонденции, помеченной: Париж, 25 февраля, в «Kolnische Zeitung»[116] № 51 пишет по поводу так называемого немецко-французского заговора[117] следующее:
«Несколько обвиняемых скрылись, среди них некий А. Майер, которого изображают как агента Маркса и компании…»
Лживость этого изображения, наделяющего меня не только «компаньонами», но и «агентом», явствует из следующих фактов. А. Майер, один из интимнейших друзей г-на К. Шаппера и бывшего прусского лейтенанта Виллиха, был счетоводом в руководимом ими Эмигрантском комитете[118]. Об отъезде этого совершенно чужого для меня субъекта из Лондона я узнал только из письма одного моего женевского друга, который сообщил мне, что некий А. Майер обрушивается на меня с самыми нелепыми обвинениями. Из французских газет я узнал, наконец, что этот А. Майер — «политическая фигура».
Лондон, 3 марта 1852 г.
Карл Маркс
ВЕЛИКИЕ МУЖИ ЭМИГРАЦИИ[119]
«Воспой, дух бессмертный, грешных людей искупленье»[120]… через Готфрида Кинкеля.
Готфрид Кинкель родился лет сорок тому назад. Жизнь его описана в автобиографии: «Готфрид Кинкель. Правда без вымысла. Биографический очерк». Издана Адольфом Штродтманом (Гамбург, Гофман и Кампе, 1850, in 8°)[121].
Готфрид является героем демократического зигвартовского периода[122], породившего в Германии столь беспредельную патриотическую тоску и слезоточивую скорбь. Дебютировал он в качестве посредственного лирического Зигварта.
Характерные для дневника растянутость и бессвязность, с которой его земное существование преподносится читателю, так же как и назойливую развязность сих откровений следует отнести на счет апостола Штродтмана, «компилятивному изложению» которого мы следуем.
«Юный Готфрид вместе со своим другом Паулем Целлером изучал евангелическую теологию и снискал трудолюбием и благочестием уважение своих знаменитых учителей» (Зака, Ницша и Блека) (стр. 5).
С самого же начала он предстает перед нами «явно погруженным в серьезные размышления» (стр. 4), «опечаленным и мрачным» (стр. 5), совсем как это подобает grand homme en herbe {будущему великому человеку. Ред.}. «Карие, сверкающие мрачным огнем очи Готфрида следили» за несколькими буршами «в коричневых фраках и светло-голубых плащах». Готфрид тотчас же ощутил, что бурши эти
«стремились прикрыть внутреннюю пустоту внешним блеском» (стр. 6). Его нравственное негодование объясняется тем, что Готфрид «защищал Гегеля и Мархейнеке», в то время как эти бурши обозвали последнего «тупицей». Впоследствии, когда кандидат теологии явился в Берлин на предмет продолжения занятий и должен был сам чему-нибудь научиться у Мархейнеке, он записал в своем дневнике в его адрес следующее художественное изречение (стр. 61):
«Кто философствует, тот выбрал путь плохой,
Как скот голодный, что в степи сухой
Кружит себе, злым духом обойденный,
А вкруг цветет роскошный луг зеленый»[123].
Готфрид позабыл здесь, правда, о другом изречении, в котором Мефистофель подтрунивает над жаждущим познания учеником:
«Презри лишь разум и науку!»[124]
Вся эта назидательная студенческая сценка служит, между тем, лишь вступлением к тому, чтобы дать будущему освободителю мира повод для следующего откровения (стр. 6). И сказал Готфрид:
«И все же этому поколению но погибнуть, если не быть войне… Лишь сильно действующими средствами можно помочь нашему захиревшему веку!».
А друг его ответствовал:
«Новый потоп и ты в нем подобно Ною, но во втором, исправленном издании».
Таким образом, светло-голубые плащи настолько способствовали развитию Готфрида, что он мог провозгласить себя «Ноем нового потопа». Друг его делает по этому поводу следующее замечание, которое можно было бы поставить эпиграфом к самой биографии:
«Мы с отцом частенько посмеивались втихомолку над твоим пристрастием к неясным понятиям!»
Во всех этих откровениях прекрасной души повторяется только одно «ясное понятие» — Кинкель уже в зародышевом состоянии был великим человеком. Самые обыденные вещи, происходящие со всеми заурядными людьми, становятся у него многозначительными событиями. Ничтожные горести и радости, переживаемые каждым кандидатом теологии в более интересной форме, столкновения с мещанской обстановкой, десятками наблюдаемые во всяком интернате и всякой консистории Германии, становятся у него роковыми событиями мирового значения, по поводу которых преисполненный мировой скорби Готфрид непрестанно разыгрывает комедию.
Семья друга Пауля покидает Бонн и возвращается в Вюртемберг. Готфрид инсценирует это событие следующим образом. Готфрид любит сестру Пауля и возвещает при этом, что он «любил уже дважды». Но теперешняя любовь его — не какая-нибудь обыкновенная любовь, а «ревностное и истинное почитание бога» (стр. 13). В сопровождении друга Пауля Готфрид совершает восхождение на Драхенфельс и на фоне этой романтической декорации разражается следующим дифирамбом:
«Прощай, дружба, — во Спасителе найду я брата! Прощай, любовь, — невестой моей будет вера! Прощай, привязанность сестры, — я войду в многотысячную общину праведников! Выйди же, о мое юное сердце, и научись быть наедине с твоим богом и борись с ним, пока не одолеешь его и не наречет он тебя новым именем, именем священного Израиля, неведомого никому, кроме обретающего его! Привет тебе, величаво восходящее солнце, отражение моей пробуждающейся души!» (стр. 17).
Итак, расставанье с другом служит для Готфрида поводом воспеть восторженный гимн своей собственной душе. Однако этого недостаточно — Другу также полагается петь в унисон. Во время этого восторженного излияния Готфрид говорит «приподнятым голосом, чело его пылает», он «забывает о присутствии своего друга», «взгляд его сияет радостью», «возгласы его исполнены восторга» и т. д. (стр. 17) — словом, инсценируется все ветхозаветное явление Ильи-пророка.
«С грустной улыбкой посмотрел на него Пауль преданными очами и молвил: «В груди твоей бьется более мужественное сердце, нежели в моей, — ты, конечно, превзойдешь меня, — но позволь мне оставаться твоим другом и вдали от тебя». Готфрид с радостью пожал протянутую ему руку и возобновил старый союз» (стр. 18).
В этой сцене горнего преображения Готфрид добился, чего хотел. Друг Пауль, недавно еще посмеивавшийся над «пристрастием Готфрида к неясным понятиям», склоняется перед именем «священного Израиля» и признает превосходство и будущее величие Готфрида.
Готфрид ликует и с дружеской снисходительностью возобновляет старый союз.
* * *
Перемена декорации. День рождения матери Кинкеля, супруги оберкассельского пастора Кинкеля. Семейное торжество дает повод возвестить о том, что, «подобно матери Спасителя, почтенная мать семейства именовалась Марией» (стр. 20), — несомненное предзнаменование того, что Готфрид также призван быть спасителем и искупителем мира. Таким образом, студент теологии на протяжении первых же двадцати страниц изображается в связи с ничтожнейшими событиями Ноем, священным Израилем, Ильей и, наконец, Христом.
* * *
Готфрид, который в сущности ничего не переживает, естественно, в ходе переживаемого непрерывно копается в своих внутренних ощущениях. Пиетизм, свойственный ему как сыну проповедника и будущему богослову, вполне соответствует как врожденной слабости его духа, так и кокетливой возне с собственной особой. Мы узнаем, что мать и сестра отличались суровым благочестием и что Готфрид был преисполнен сознанием своей греховности. Конфликт этого богобоязненного воззрения на греховность с «веселым жизнерадостным времяпрепровождением» обыкновенных студентов становится у Готфрида, сообразно его всемирно-историческому призванию, борьбой религии и поэзии, и кружка пива, выпиваемая сыном оберкассельского пастора в компании других студентов, превращается в ту роковую чашу, в которой борются обе души Фауста. Из описания набожной семейной жизни мы узнаем, как «матерь Мария» борется с «греховным влечением Готфрида к театру» (стр. 28), — многозначительная раздвоенность, которая опять-таки должна предуказывать будущего поэта, в действительности же лишь обнаруживает пристрастие Готфрида к актерскому ломанью. О его сестре Иоганне позднее отзывались как о пиетистской мегере и говорили, что она однажды дала пощечину пятилетней девочке за то, что та была невнимательной в церкви, — грязная семейная история, разглашение которой было бы непонятно, если бы в конце книги не оказалось, что именно эта сестра Иоганна ревностнее всех восставала против брака Готфрида с г-жой Моккель.
Как о событии, упоминается о том, что в Зельшейде Готфрид произнес «великолепную проповедь на тему об увядающем пшеничном зерне».
* * *
Семья Целлеров и «возлюбленная Элиза», наконец, уезжают. Мы узнаем, что Готфрид «горячо сжал руку девушки» и ласково прошептал ей: «Элиза, прощайте! Больше я ничего не смею сказать». За этой интересной повестью следует первое зигвартовское стенание:
«Уничтоженный!» «Безмолвный?» «Безутешная надорванность!» «Пылающее чело!» «Глубочайшие вздохи!» «Безумнейшая боль пронизала его мозг» и пр.