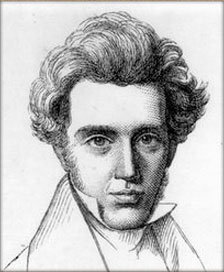не ждет помощи, чем бы он сам ни занимался; однако разве не может это добро порою его беспокоить? Разве не может оно навсегда помешать ему обрести полное усилие данной последовательности, короче, ослабить его? Только в продолжительности греха он является собою, живет там и чувствует, что живет. Что же это значит, если не то, что пребывание во грехе — это то, что еще поддерживает его в глубине его падения благодаря дьявольской опоре последовательности; и ему помогает (о, ужасное безумие!) тут вовсе не новый, отдельный грех; этот новый, отдельный грех лишь выражает непрерывность во грехе, и как раз в этом и состоит сам грех как таковой.
Стало быть, «продолжение греха», которое должно теперь последовать, касается не столько новых грехов по отдельности, сколько продолжающегося состояния греха, — а это снова оказывается увеличением напряженности греха через него самого, сознательным упорствованием во грехе. Стало быть, закон усиления греха отмечает здесь, как и повсюду, внутреннее движение ко все большей напряженности сознания.
Глава I. ГРЕХ ОТЧАЯНИЯ В СОБСТВЕННОМ ГРЕХЕ
Грех причастен к отчаянию, а его напряженность усиливается благодаря новому греху отчаяния в собственном грехе. Легко видеть, что именно в этом и состоит то, что понимают под увеличением напряженности; при этом речь не идет о каком-то новом грехе — подобно тому как после кражи сотни риксдалей случается вторая кража в тысячу риксдалей. Нет, здесь подразумеваются не отдельные, изолированные грехи; длящееся состояние греха — это грех, и грех этот усиливается в своем новом осознании.
Когда отчаиваются в своем грехе, это означает, что грех заключен внутри своей собственной последовательности или же стремится там оставаться. Он полностью отказывается иметь какое бы то ни было отношение к добру, он сожалеет о своей слабости — о том, что он порой прислушивался и к другому голосу. Нет, теперь он решает слушать лишь самого себя, иметь дело только с собою, замкнуться в пределах своего Я, укрыться еще за одной оградой, наконец, оградить себя отчаянием своего греха от всякой неожиданности или следования добру. Он сознает, что сжег за собой все мосты и стал столь же недостижим для добра, сколь это добро недостижимо для него: настолько, что, даже если бы он и пожелал добра в минуту слабости, всякое возвращение к нему было бы невозможно. Грешить — значит отделяться от добра, но отчаиваться во грехе — это вторичное отделение, которое выжимает из греха, как из плода, последние демонические силы; тогда, в этом ожесточении или дьявольском укреплении, будучи пойманным внутри собственного сознания, он вынуждает себя считать не просто бесплодным и тщетным то, что зовется раскаянием и милостью, но также видеть в этом опасность, против которой он более всего вооружается, — подобно тому как поступает человек добра перед лицом искушения. В этом смысле Мефистофель в «Фаусте» не так уж не прав, говоря, что нет худшего несчастья, чем дьявол, который отчаивается{43}, ибо отчаяние здесь — всего лишь слабость, которая прислушивается к раскаянию и милости. Чтобы охарактеризовать напряженность мощи, до которой подымается грех, когда человек отчаивается в нем, можно отметить, что на первой стадии человек разрывает с добром, а на второй — с раскаянием.
Отчаиваться во грехе — значит пытаться удержаться, падая все ниже и ниже; подобно воздухоплавателю, который поднимается, сбрасывая балласт, отчаявшийся, который упорствует в том, чтобы выбрасывать за борт все добро (не понимая, что это тот балласт, который, наоборот, поднимает, если его сохранить), падает, веря в то, что поднимается, — правда, при этом он также все больше и больше освобождается от излишней тяжести. Грех сам по себе есть битва отчаяния; однако когда силы исчерпаны, необходимо новое поднятие мощи, новое демоническое стягивание себя к себе самому; и таково как раз отчаяние во грехе. Это продвижение вперед, то есть возрастание демонического, которое, очевидно, погружает нас еще глубже в грех. Это попытка придать греху содержание, некий интерес, сделать из него некую мощь, говоря себе, что кости выпали определенным образом раз и навсегда и потому он останется глухим ко всем призывам раскаяния и милости. Отчаяние во грехе, однако же. не обманывается собственным своим отрицанием, хороню зная, что ему не для чего больше жить, ибо ничего, даже сама идея его Я ему уже ни к чему. Это то, о чем говорит Макбет уже после того, как он убил короля, отчаиваясь теперь в своем грехе:
«Нет ничего серьезного в смертной жизни:
Все — как игрушка, мертвы слава и милость».
Von jetzt gibt еs nichts Ernstes mehr it Leben;
Alles ist Tand, gestorben Ruhm und Cinade{44}.
Мастерство этих стихов заключено в двойном ударе последних слов (Ruhm und Gnade) (нем.: «слава» — Ruhm, «милость» — Gnade). Посредством греха, иначе говоря отчаявшись во грехе, он в то же самое время находится на бесконечном расстоянии от милости… и от себя самого. Его Я, весь его эгоизм находят себе завершение в тщеславном стремлении. Вот он стал королем, и, однако же отчаиваясь в своем грехе и в реальности раскаяния, то есть в милости, он уже потерял свое Я; будучи неспособным поддержать этоЯ даже для самого себя, он как раз настолько же далек от возможности насладиться им в тщеславном стремлении, как и от того, чтобы обрести милость.
***
В жизни (если действительно отчаяние во грехе встречается в ней; во всяком случае, в ней есть состояние, которое люди называют именно так) относительно этого обычно существует ошибочный взгляд; — несомненно потому, что, поскольку мир не предлагает нам ничего, кроме ветрености, легкомыслия, чистой глупости, всякое проявление чего-то хоть немного более глубокого потрясает нас и заставляет с почтением снимать шляпу. Либо вследствие смутного неведения относительно себя самого и всего, что это означает, либо вследствие лакировки лицемерия, или же благодаря его обычному лукавству и софистике отчаяние во грехе не питает отвращения к тому, чтобы придавать себе наружный блеск добра. В этом предпочитают видеть знак глубокой натуры, которая, естественно, принимает свой грех весьма близко к сердцу. Его представляют, например, таким человеком, который, отдавшись какому-то греху, затем долго противился искуплению и в конце концов поборол его… Теперь, если он вновь падает и уступит искушению, хандра, которая его охватывает, — это не всегда печаль от того, что он согрешил. Она может касаться чего-то совершенно другого, вполне быть также раздражением против провидения, как если бы само провидение позволило ему пасть, тогда как оно не должно было бы обходиться с ним так сурово — он ведь так долго держался. Но разве не будет рассуждением, достойным женщины, если мы примем эту печаль с закрытыми глазами, если не заметим двусмысленности, заключенной во всякой страсти, выражения той роковой неизбежности, в силу которой страстный человек, порой почти доходя до безумия, может внезапно заметить, что он сказал прямо противоположное тому, что собирался сказать! Этот человек, возможно, все более настойчиво будет заверять вас во всех мучениях, которые он испытывает от своего падения, в том, что это падение приводит его в отчаяние. «Я никогда не прощу этого себе», — скажет он. И все это — чтобы поведать вам о том добре, которое заключено в нем, обо всей прекрасной глубине своей натуры. А иногда это просто попытка ввести вас в заблуждение. Я нарочно включил в свое описание эти слова: «Я никогда не прощу этого себе» — слова, которые обычно слышат в подобных обстоятельствах. И действительно, это выражение тотчас же приводит нас к рассмотрению диалектики Я. Итак, он никогда себя не простит… ну а если Бог все же пожелает это сделать, неужели в нем самом будет столько злобы, что он не простит себя? На самом деле его отчаяние во грехе — и прежде всего когда он бушует на словах, обличая себя (и нисколько не думая при этом о мире), когда он говорит, что «никогда не простит себе» того, что так грешил (слова почти прямо противоположные смиренному раскаянию, которое как раз просит Бога о прощении),- его отчаяние весьма мало указывает на добро, оно, напротив, еще более настойчиво указывает на грех, чья напряженность проистекает от того, что в него погружаются все глубже. На деле как раз в то время, когда он противился искушению и считал, что становится лучше, он не был таковым; он начал гордиться собою, и его гордость теперь заинтересована в том, чтобы прошлое было вполне завершено. Однако его новое падение внезапно придает этому прошлому всю его нынешнюю действительность. Невыносимый вызов для его гордости; отсюда — его глубокая печаль и так далее… Совершенно очевидно, что это такая печаль, которая поворачивается спиной к Богу, которая является всего лишь прикрытием для самолюбия и гордыни. Между тем ему следовало бы вначале смиренно поблагодарить Бога за то, что тот так долго помогал его сопротивлению, а затем признаться ему и признаться самому себе, что эта помощь уже намного превосходила его собственные заслуги, чтобы в конце концов самоуничижиться при воспоминании о том, что он совершил.
Здесь, как и всегда, объяснения старых и поучительных текстов переполнены глубиной, опытом, наставлениями. Они наставляют о том, что Бог порой позволяет верующему совершить ошибку и пасть перед каким-то искушением… — как раз для того, чтобы унизить его и тем самым еще более укрепить в добре; ведь контраст между этим новым падением и его продвижением по дороге добра — продвижением, которое может быть значительным, — столь унизителен! а подтвердить тем самым свою самотождественность для него столь мучительно! Чем больше поднимается человек, тем больше он страдает, когда грешит, и тем больше риска пропустить поворот: это риск содержится даже в малейшем нетерпении. Возможно, печаль сгустится в самое черное горе… а какой-нибудь безумный руководитель душ будет все так же готов восхищаться его моральной глубиной, всей мощью добра в нем… как если бы это имело отношение к добру! А его жена, бедняжка! разве она не унижена рядом с подобным мужем, серьезным и богобоязненным, рядом с человеком, которого столь печалит грех! А возможно, он будет даже прибегать к еще более обманчивым выражениям, возможно, вместо того, чтобы говорить: «Я никогда не смогу простить себе этого» (как если бы он уже сам прощал себе грехи: чистое богохульство), возможно, он просто говорит, что Бог никогда не сможет ему простить этого.
Увы! И здесь он всего лишь самообольщается. Его печаль, его забота, его