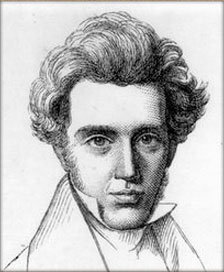которая его полагает (см. кн. I. Гл. 1. С. 5).
1. Отчаяние, когда не желают быть собою, или отчаяние-слабость (Svaghendens Fortvivelse)
Это обращение к отчаянию-слабости уже предполагает принятие в расчет второй формы отчаяния: той, когда желают быть собою. Таким образом, их противопоставление всего лишь относительно. Нет отчаяния, совершенно лишенного вызова, а само выражение «когда не желают» таит в себе еще больше вызова. С другой стороны, даже в высочайшем вызове отчаяния уже есть некая слабость. Потому нетрудно видеть всю относительность их различия. Можно было бы сказать, что одна из этих форм женственна, тогда как другая — мужественна .
Именно по причине всего этого, женственной самоотдачи ее существа, природа с нежностью к ней вооружила ее инстинктом, тонкость которого превосходит самое ясное мужское размышление и обращает его в ничто. Эта женская привязанность и, как говорили древние греки, этот дар богов, это великолепие суть слишком большое сокровище, чтобы разбрасываться им наугад; но какое из всех ясных человеческих сознаний имело бы довольно ясности, чтобы рискнуть судить о том, кому принадлежит на нее право. Потому сама природа распорядилась этим: благодаря инстинкту ее ослепление видит более ясно, чем самый ясновидящий интеллект, благодаря инстинкту она видит, куда обратить свое восхищение, кому отдать свое самозабвение.
Поскольку привязываться к кому-то — это все ее существо, природа сама позаботилась о ее защите. Отсюда вытекает также, что ее женственность рождается лишь из некой метаморфозы: когда бесконечная добродетельность преобразуется в самоотдачу женщины. Однако такая прирожденная способность всего ее существа привязываться также уходит в отчаяние, составляя одну из его форм. В самоотдаче она теряет свое Я и только так может обрести свое счастье и, значит, вновь обрести Я.
Счастливая женщина, без привязанности, то есть без самоотдачи своего Я, кому бы оно ни отдавалось, лишена всякой женственности. Мужчина также отдает себя, и для него было бы существенным изъяном, если бы он не делал этого; но его Я — не в самоотдаче (это сущность женственного, сущность женского Я), у него нет нужды в том, чтобы, как присуще женщине, вновь обретать свое Я, ибо оно у него уже есть. Он отдает себя, но его Я продолжает пребывать как своего рода осознание этой самоотдачи, тогда как женщина с истинной женственностью все более вкладывает себя и свое Я в объект, которому отдается. А утрачивая этот объект, она теряет и свое Я и ввергается в ту форму отчаяния, когда не желают быть собою. Мужчина не отдается так, но иная форма отчаяния несет на себе явный отпечаток мужественной природы: здесь отчаявшийся желает быть собою. Все это сказано, чтобы обозначить отношение между отчаянием мужчины и отчаянием женщины. Однако не будем забывать, что здесь не идет речь о самозабвении и отдаче себя Богу, равно как и об отношении верующего к Богу, — об этом будет говориться только во второй части. В отношении к Богу, где исчезает это различие между мужчиной и женщиной, равным образом верно и то, что самозабвение и самоотдача есть Я и что к Я приходят именно через самоотдачу. Это справедливо и для женщины, и для мужчины, однако в жизни очень часто бывает, что женщина устанавливает отношение к Богу лишь через мужчину.
1) Отчаяние во временном или же во временных вещах
Здесь мы сталкиваемся с непосредственным или же с непосредственным, сопровождаемым чисто количественной рефлексией. Здесь нет бесконечного осознания Я, того, что такое отчаяние, равно как нет и осознания отчаявшейся природы состояния, в котором человек находится. Здесь отчаиваться — значит просто страдать, при этом пассивно подчиняются давлению извне, а отчаяние никоим образом не приходит изнутри как действие. В целом, стало быть, здесь это только злоупотребление невинного языка, своего рода игра слов — как бывает, когда дети играют в солдатики, — когда в обычном языке употребляют слова типа: мое Я, отчаяние.
Непосредственный человек (den Umiddelbare) (если, конечно, в жизни еще встречаются подобные формы непосредственности, до такой степени лишенные всякой рефлексии) является — если уж определять его и определять его Я под углом зрения духовного — всего лишь еще одним явлением, еще одной деталью в необьятности временного, всего лишь составной частью остального материального мира (?? ??????) (букв.: «материальный, природный мир» (греч.)), и такой человек содержит в себе лишь ложное подобие вечности. Таким образом, его Я в качестве составляющей части прочего вполне может ожидать, желать, наслаждаться… но оно всегда остается пассивным; даже если это Я желает, оно всегда остается как бы в дательном падеже, как если бы ребенок говорил: «мне хочется». Тут нет иной диалектики, кроме диалектики приятного и неприятного, нет и иных представлений, помимо представлений о счастье, несчастье, судьбе.
Вдруг с этим дорефлексивным Я случается, происходит (исходит откуда-то) нечто, заставляющее его отчаиваться, — короче, нечто, не достижимое никаким иным способом, ибо это Я не несет в себе никакой рефлексии. Его отчаяние должно прийти извне, а это — не что иное, как пассивность. Скажем, то, что наполняет жизнь этого непосредственного человека, или же, если в нем все же есть хоть тень рефлексии, хотя бы часть этой жизни, за которую он более всего держится, вдруг в результате «удара судьбы» окажется у него отнято, — тогда, если говорить его языком, он окажется несчастным; иначе говоря, подобный удар разбивает в нем непосредственное, так что он не может больше туда вернуться: он отчаивается. Или, скажем, — хотя это вещь довольно редкая в жизни, но с точки зрения рассуждения это вполне возможно — отчаяние в непосредственном проистекает из того, что этот дорефлексивный человек называет избытком счастья; непосредственное, как таковое, — это, по сути, нечто весьма хрупкое, и всякое quid nimis («чрезмерность» (лат.)), приводящее в движение рефлексию, ввергает его в отчаяние.
Стало быть, он отчаивается или, скорее, по странному обманчивому видению, будучи как бы завлеченным вглубь, к собственному субъективному Я, он говорит, что отчаивается. Однако отчаиваться — значит терять вечность, но вот как раз об этой-то потере он не говорит ни слова, он о ней даже не подозревает. Отчаяние во внешнем само по себе даже не является отчаянием, однако о нем так говорят, и это называют отчаянием.
В некотором смысле такое утверждение истинно, однако не так, как обычно при этом полагают; противореча чувствам, оно должно и пониматься здесь наоборот: оно пребывает здесь, как раз чтобы указать, что не является отчаянием; называя себя отчаявшимся, человек не подозревает, что в это самое время отчаяние действительно появляется у него за спиною, без его ведома. Как если бы некто стоял спиной к ратуше и, указывая вперед, говорил: вот, передо мною ратуша; этот человек по-своему прав: ратуша была бы перед ним, но только если бы он обернулся. То есть, по сути, он не отчаивается — о нет! — хотя он и не ошибается, называя себя таковым.
Однако он считает себя отчаявшимся, рассматривает себя как погибшего, как тень себя самого. Это вовсе не так, можно сказать даже, что в этом трупе еще теплится жизнь. Если бы внезапно все переменилось — весь этот внешний мир — и желание его исполнилось бы, легко было бы видеть, как он сразу же оживился бы, приосанился и вновь начал бы бегать по своим делам. Однако непосредственность — не знает иного способа бороться, она знает только это: отчаяться и упасть в обморок… однако одно ей неизвестно: что такое отчаяние. Она отчаивается и лишается чувств, затем не шевелится, как если бы уже умерла, — прием, подобный тому, как притворяются мертвыми насекомые, ибо она подобна этим низшим животным, которые не имеют другого оружия и средства защиты, кроме неподвижности и притворной смерти.
Между тем время идет. С некоторой помощью извне наш отчаявшийся вновь обретает жизнь, возвращаясь к той точке, которую оставил когда-то, не более становясь истинным Я, чем он был им вчера, — и продолжает жить в чистой непосредственности. Однако без внешней помощи очень часто действительность поворачивается иначе. Все равно в этот труп возвращается немного жизни, однако, как говорят, «он никогда уже не будет собою». Теперь он наконец понимает, что такое существование, он научается копировать других и тот способ, каким они берутся за жизнь… и вот теперь-то он живет, как все они. И в христианстве он наружно вполне является христианином, который по воскресеньям ходит в церковь, слушает пастора и понимает его, ибо они, по сути, братья; когда же он действительно умирает, пастор за десять риксдалей вводит его в вечность; однако что касается того, чтобы быть истинным Я, он не был им ни прежде, ни теперь.
В этом и состоит отчаяние в непосредственном: не желать быть собою, или еще хуже: не желать быть Я, или же самое худшее: желать быть другим, желать себе новое Я. Непосредственность в основе своей не имеет никакого Я, не осознает себя, — как же она могла бы узнать себя? Потому ее приключения так часто оборачиваются бурлеском. Человек непосредственности, даже отчаиваясь, не имеет достаточно истинного Я, чтобы желать или мечтать о том, чтобы стать или быть тем, кем он не стал. Потому он помогает себе иначе — желая быть другим.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на людей непосредственности: в час отчаяния их первое желание — быть в прошлом или стать другими. Во всяком случае, как не усмехнуться над участью подобного отчаявшегося, само отчаяние которого в глазах людей, несмотря ни на что, остается бесцветным и слабым.
Обычно такой человек беспредельно комичен. Представьте себе Я (а ничто ведь, согласно Господу, не является столь вечным, как Я), которое начинает грезить о способах превратить себя в другого — иного, чем оно само. И такой отчаявшийся, единственным желанием которого является подобная метаморфоза, самая безумная из всех, — этот отчаявшийся влюблен, именно влюблен в иллюзию, согласно которой такая перемена будет для него столь же легкой, как и перемена платья. Ибо человек непосредственности не знает самого себя, — он буквально знает себя лишь по платью, он не узнает своего Я (в этом и обнаруживается его бесконечный комизм) иначе как сообразно своей жизни. Невозможно было бы найти более смешного недоразумения; ибо на деле бесконечное — это различие между Я и его внешним. Как только вся жизнь меняется для человека непосредственного и он впадает в отчаяние, он делает еще один шаг