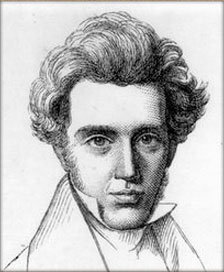ироническим; он находился в неведении, ничего не знал, постоянно обращался с вопросами к окружающим, он предоставил существующее самому себе, и оно погибло. Эту тактику он развил до крайнего предела, что особенно проявилось, когда против него были выдвинуты обвинения. Подобное рвение сожгло его, и в конце концов он был настигнут иронией, все стало зыбким для него, все потеряло свою реальность. Такое понимание Сократа и роли его воззрений в мировой истории так естественно закругляется в самом себе, что, я надеюсь, оно встретит сочувствие у некоторых читателей. Гегель не считает позицию Сократа иронией, и поэтому необходимо принять во внимание его возражения. содержащиеся в некоторых его работах.
Я же попытаюсь объяснить, в чем, на мой взгляд, состоит слабость гегелевского понимания понятия иронии. Гегель всегда говорит об иронии как о чудовище. Начало деятельности Гегеля совпало с расцветом деятельности Гегеля. Объектом иронии последователей Шлегеля в эстетике была получавшая все большее распространение сентиментальность. Гегель намеревался исправить недостаток самой иронии. Вообще, одна из больших заслуг Гегеля состоит в том, что он остановил, или по крайней мере пытался остановить, блудных сыновей спекуляции на их пути к погибели. Но он не всегда использовал для этого самые подходящие средства, он не всегда взывал к ним мягким голосом отца, а часто — суровым голосом школьного надзирателя. Наибольшее неудобство причиняли Гегелю приверженцы иронии, и он скоро утратил надежду на их спасение и обращался с ними как с неисправимыми и закоренелыми грешниками. Гегель использует любую возможность упомянуть их и говорит о них очень резко, он с огромным презрением и высокомерием смотрит на этих, как он выражается, «заносчивых людей». Но Гегель не заметил той разновидности иронии, которая была ему ближе всех, и это обстоятельство не могло не нанести ущерба его пониманию иронии. Часто он вообще не говорит об иронии как таковой, но зато всегда ругает Шлегеля. Это не означает, однако, что Гегель не прав по отношению к Шлегелю и его последователям, или что их ирония не была весьма сомнительного свойства; основательность, с которой Гегель выступил против всякой изоляции, несомненно, принесла много пользы, но ополчившись на послефихтевскую иронию, Гегель просмотрел истинность иронии, а отождествив послефихтевскую иронию с иронией вообще, поступил несправедливо по отношению к последней. Как только Гегель произносит слово «ирония», он тут же вспоминает Шлегеля и Тика, и в его интонации появляются нотки досады. Позднее мы остановимся на том искаженном и несправедливом, что присутствовало в понимании иронии Шлегелем, а также на заслуге Гегеля в этом отношении. Сейчас же вернемся к его толкованию иронии Сократа.
Ранее мы уже обращали внимание на то, что Гегель выделяет две стороны метода Сократа: его иронию и его искусство повивальной бабки. Об этом говорится в его «Истории философии». Не говоря об иронии Сократа почти ничего, он тем не менее обрушивается на иронию как принцип и добавляет: «Первым, выдвинувшим эту мысль, был Фридрих фон Шлегель, и ACT повторил ее за ним» *. Затем следуют выражения, которые Гегель всегда употребляет в связи с этим. Сократ прикидывается незнающим и, делая вид, что учится у других, сам их поучает. «Это — знаменитая сократовская ирония, которая у него представляет собою особый способ обращения в личных беседах,
следовательно, только субъективную форму диалектики, между тем как диалектика в собственном смысле имеет дело с основаниями рассматриваемого предмета, а ирония — особый способ обращения человека к человеку» **. Немного ранее он замечает, что ирония Сократа содержит нечто неистинное, но отмечает и правильность его поведения. Он отмечает также значение иронии Сократа, великое в ней. Оно состоит в том, что ирония позволяет абстрактным представлениям становиться конкретными и определенными. Далее Гегель замечает: «Когда я говорю, что я знаю, что такое разум, что такое вера, то это — лишь совершенно абстрактное представление; для того, чтобы эти представления сделались конкретными, требуется, чтобы их объяснили, чтобы предположили неизвестным, что собственно они представляют собою. Ирония Сократа заключает в себе именно ту подлинно великую черту, что она заставляет собеседников конкретизировать абстрактные представления и развить их дальше, ибо важно только осознать понятие» ***. Но здесь вообще все запутано, изображение сократовской иронии лишено исторической основы, а процитированный пассаж настолько современен, что вряд ли имеет отношение к Сократу. Сократ вовсе не стремился сделать абстрактное конкретным, и приведенные примеры не совсем удачны; ибо я не думаю, что Гегель мог бы подобрать к ним аналогии, если, конечно, он не хочет прибегнуть к помощи Платона и оправдаться тем, что в его произведениях постоянно встречается имя Сократа; этим он стал бы противоречить не только всем окружающим, но и самому себе. Сократ не стремился сделать абстрактное конкретным, но через не посредственное конкретное он делал видимым абстрактное. Поэтому в ответ на эти рассуждения Гегеля достаточно напомнить о двойственном характере иронии Платона (поскольку очевидно, что Гегель имел в виду и отождествлял с иронией Сократа иронию, названную нами платоновской), а также о том, что закон движения всей жизни Сократа состоял не в стремлении от абстрактного к конкретному, а в стремлении от конкретного к абстрактному, в постоянном стремлении к абстрактному. Свои рассуждения об иронии Сократа Гегель заканчивает тем, что отождествляет ее с иронией Платона и говорит, что и
и та, и другая — «больше манера разговора, невинная шутливость, чем чистое отрицание, негативное поведение» *. Но и на это замечание был ранее дан ответ. — Не лучше обстоит у Гегеля дело и с изображением сократовского искусства повивальной бабки. Он рассуждает о значении вопросов Сократа, и эти рассуждения интересны и верны;
но можно ведь спрашивать для того, чтобы посрамить собеседника. Этой разницы (на которую мы уже указывали выше) Гегель не замечает. Тот пример (1) о понятии становления, который он приводит в конце, тоже не имеет отношения к Сократу, если он, конечно, не хочет разглядеть в «Пармениде» нечто сократовское. — Наконец он говорит о трагизме иронии Сократа, но трагизм не в ней, а в иронии мира по отношению к Сократу. Так что и это замечание ничего не прибавляет к вопросу о сократовской иронии.
В работе «О «Посмертных сочинениях и переписке Зольгера»» Гегель опять указывает на разницу между иронией Шлегеля и иронией Сократа. Мы согласны с тем, что такая разница существует, но это вовсе не означает, что позицией Сократа не была ирония. Гегель упрекает Шлегеля в том, что не поняв спекулятивного и устранив его, он вырывает положение Фихте о конститутивной законности «я» из метафизического контекста, выводит его из области мышления и непосредственно применяет к действительности, благодаря чему оно развивается «в отрицание жизненности разума и истины, в низведение их до видимости субъекта и чего-то кажущегося для других» **. Он обращает внимание также на то, что обозначив это превращение истины в видимость «сократовской иронией», извратили смысл последней. Гегель говорит о том, что, желая посрамить софистов, Сократ всегда начинал диспут с заверений в том, что он ничего не знает. Но такое поведение имеет своим результатом негативное, оно не достигает какой-либо научной цели. Сократ вполне серьезно заявлял, что он ничего не знает, значит, эти заявления были отнюдь не ироническими. Я не буду останавливаться на утверждении Гегеля о безрезультативности деятельности Сократа, я хочу выяснить подробнее, насколько серьезно Сократ воспринимал свое неведение.
Ранее мы уже говорили о том, что Сократ, утверждая, что он не знает, все-таки знал, поскольку он знал о своем незнании, но это знание не было знанием о чем-то, т. е. не имело какого-либо позитивного содержания, и его незнание было поэтому ироническим. Мне кажется, что здесь прав я, а не Гегель, который безуспешно пытается раздобыть для Сократа позитивное содержание. Если бы знание Сократа было знанием о чем-то, то тогда его незнание было бы просто формой ведения беседы. Но его ирония, напротив, находит в себе свое завершение. Его незнание серьезно и несерьезно одновременно, и на этом острие Сократ балансирует. Знание человека о том, что он не знает, является началом знания, но если он больше ничего не знает, то это лишь начало. Это знание постоянно питает иронию Сократа. Когда Гегель, указывая на серьезное отношение Сократа к своему
__________
* Там же. С. 48. ** Цит. по: Гегель. Эстетика. М.. 1973, Т. 4. С 488.
незнанию, считает, что это незнание не есть ирония, он изменяет самому себе. Ведь когда ирония вознамеривается высказать некоторое предложение, она поступает как всякий негативный взгляд, она высказывает нечто позитивное, и высказывает совершенно серьезно. Для иронии нет ничего непреходящего, она со всем расправляется ad libitum *; но если она хочет об этом сказать, то она высказывает нечто позитивное, и тем самым в известной мере лишается своей суверенности. Поэтому когда Шлегель или Зольгер говорит: действительность есть лишь оболочка, видимость, суетность, есть ничто, то он явно говорит всерьез, и тем не менее Гегель полагает, что это — ирония. Трудность здесь состоит в том, что в строгом смысле ирония никогда не может построить предложение, потому что она — определение длясебясуществующего субъекта, который в непрерывной суете всему отказывает в праве на существование и по причине этой суеты не может собраться и выразить тот общий принцип, что он всему отказывает в праве на существование. Убеждение Шлегеля и Зольгера в том, что конечное есть ничто, так же серьезно, как и незнание Сократа. Иронизирующий всегда должен полагать нечто, но то, что он полагает, есть ничто. Воспринимать ничто серьезно можно или приходя к чему-то (это случается, когда ничто воспринимается спекулятивно серьезно), или отчаиваясь (это случается, когда ничто воспринимается лично серьезно). Но иронизирующий не делает ни того, ни другого, и поэтому можно сказать, что он не воспринимает ничто серьезно. Ирония — бесконечно легкая игра с ничто, которое не страшится этой игры и то и дело высовывает голову. Если ничто не воспринимается спекулятивно или лично серьезно, то оно, очевидно, воспринимается легкомысленно, а потому несерьезно. Согласно Гегелю, Шлегель не воспринимал всерьез существующее как ничто, не обладающее реальностью, но тогда, по-видимому, было нечто, обладающее законностью для него, а значит, ирония Шлегеля была лишь формой. Можно сказать, что ирония всерьез воспринимает ничто, поскольку она ничего не воспринимает всерьез. Она воспринимает ничто в его противопоставлении чему-то, и чтобы всерьез избавиться от чего-то, она прибегает к ничто. Но ничто она воспринимает всерьез лишь постольку, постольку не воспринимает всерьез нечто. Так же обстоит дело и с незнанием Сократа: его незнание есть ничто, которым