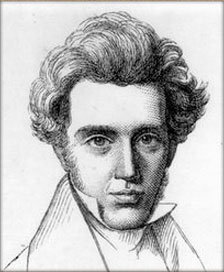которое утверждает то же самое, что уже было сказано в предшествующем рассмотрении, но одновременно указывает на нечто последующее — был мгновением в индивидуальной жизни.
Существует категория, которая повсеместно используется в новейшей философии, в логических исследованиях с таким же успехом, как и в историко-философских штудиях, и эта категория есть «переход». Более подробного разъяснения, однако, получить нигде не удается. Ее применяют довольно свободно, и в то время как Гегель и его школа поразили мир великой идеей о беспредпосылочном начале философии, то есть идеей о том, что философии не может предшествовать ничего иного, помимо совершенно полного отсутствия предпосылок, никто не стесняется использовать понятия «переход», «отрицание», «опосредование», то есть все движущие принципы гегелевского мышления таким образом, что они при этом не получают своего места в систематическом продвижении вперед. И если это не предпосылка, значит, я вообще не знаю, что такое предпосылка; ибо использовать нечто, нигде его не объясняя, как раз и значит исходить из предпосылки. Как предполагается, система обладает такой удивительной прозрачностью и внутренним видением, что по примеру omphalopsychoi она должна неколебимо глядеть на центральное Ничто до тех пор, пока наконец все не разъяснится и все ее содержание не будет присутствовать здесь просто само собою. Такая обращенная к себе внутрь открытость и должна была стать открытостью системы. Между тем оказывается, что это вовсе не так, и похоже, что систематическая мысль набрасывает покров тайны на свои самые внутренние движения. «Отрицание», «переход», «опосредование» суть три переодетых, подозрительных тайных агента (agentia), которые и вызывают все движения. Гегель едва ли назвал бы их неугомонными и непослушными, ибо они ведут свою игру с его любезного разрешения, причем ведут ее настолько раскованно, что в логике используются выражения и обороты речи, заимствованные из обозначения переходов во времени: «затем», «когда», «будучи таковым», «становясь таковым» и прочее в том же роде.
Пусть там все будет как угодно; пусть логика позаботится о самой себе. Слово «переход» всегда было и остается для логики просто остроумным выражением. Оно принадлежит сфере исторической свободы; ибо переход — это состояние, и он действительно есть . Платон прекрасно сознавал трудности, связанные с введением перехода в область чистой метафизики, и потому он отдан столько усилий категории «мгновение» .
Игнорировать это затруднение конечно же никак не значит «пойти дальше» Платона; игнорировать его — все равно, что благочестиво обманывать тем самым мышление, чтобы держать на плаву спекуляцию и запускать движение логики, а это означает, что спекуляцию тут рассматривают как в некотором роде конечное явление. Однако я вспоминаю, как когда-то слышал спекулятивного философа, который утверждал, будто не стоит заранее так уж задумываться о затруднениях; ибо в этом случае никто вообще не начал бы спекулятивно размышлять. Если самое главное — это начать спекулятивное мышление, а отнюдь не то, будет ли такая спекуляция настоящей, тогда, конечно, можно решительно заявить, что важнее всего начать спекулятивное мышление; это будет столь же похвально, как то, что человек, у которого недостает средств, чтобы поехать в Олений парк в собственном экипаже, может сказать: «Не стоит об этом и беспокоиться, можно с таким же успехом поехать на этой «кофейной мельнице». Это и в самом деле так: оба господина, которые туда отправляются, будем надеяться, благополучно доберутся до Оленьего парка. Однако это едва ли выйдет в случае со спекуляцией: тот, кто решительно заявляет, что не станет беспокоиться о средствах передвижения, едва ли доберется до спекулятивного мышления.
В области исторической свободы переход есть некое состояние. Однако, для того чтобы правильно это понять, не следует забывать о том, что новое наступает через прыжок. Если же этого представления не придерживаются твердо, переход приобретает количественный перевес над гибкостью прыжка.
Стало быть, человек был синтезом души и тела, однако одновременно он есть синтез временного и вечного. Я вовсе не отрицаю, что это говорили уже довольно часто прежде; ибо мое желание состоит не в том, чтобы обнаруживать нечто новое, напротив, моя радость и любимое занятие заключаются в том, чтобы размышлять над чем-то, что кажется совсем простым.
Что же касается последнего синтеза, прежде всего бросается в глаза, что он образован совершенно иначе, чем первый. В первом душа и тело были двумя моментами синтеза, дух же был третьим, причем таким образом, что о синтезе вообще могла идти речь только тогда, когда полагался дух. Во втором синтезе есть только два момента: временное и вечное. Где же здесь третий? Если же тут нет третьего, значит, это вообще не может осуществиться как синтез, кроме как в чем-то третьем; ведь то, что синтез является противоречием, означает как раз то, что его нет. Но тогда что же такое это временное?
Когда время правильно определяют как бесконечную последовательность, кажется, что его с таким же успехом можно определить как настоящее, прошедшее и будущее. Между тем такое подразделение неверно, если полагать при этом, что оно заложено в самом времени; ибо такое различение появляется только благодаря отношению времени к вечности, равно как и благодаря отражению вечности во времени. Если бы можно было найти во всей бесконечной последовательности времени некую точку опоры, то есть настоящее, которое стало бы разделительной точкой, тогда такое подразделение было бы совершенно правильным. Однако именно потому, что каждый момент, равно как и сумма моментов, есть опять-таки процесс (то есть нечто преходящее), ни один момент не будет настоящим, а значит и во времени нет ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего. Когда полагают, будто такое подразделение все же можно сохранить, это происходит, если момент становится протяженным, однако в этом случае вся бесконечная последовательность останавливается; и это происходит, потому что сюда вводят представление, и время становится объектом представления, вместо того чтобы быть помыслено. Но даже при этом действуют не совсем правильно, поскольку и для представления бесконечная последовательность времени является бесконечным, лишенным содержания настоящим. (Это, по сути, пародия на вечность.) Индусы говорят о царской династии, правившей на протяжении семидесяти тысяч лет. О самих царях ничего не известно, неизвестны (как я полагаю) даже имена. Если мы пожелаем принять это в качестве примера, для времени, для мышления эти семьдесят тысяч лет становятся бесконечным исчезновением, для представления же они растягиваются, приобретают протяженность иллюзорного образа некоторого бесконечного, лишенного содержания Ничто . Напротив, когда одно рассматривается как следующее за другим, мы полагаем настоящее.
Между тем настоящее — это не понятие времени, за исключением разве что того, что оно бесконечно и лишено содержания, что опять-таки является бесконечным исчезновением. Если на это не обращать внимания, то здесь — как бы быстро оно потом ни исчезало — все равно полагается настоящее, а после того как оно положено, оно снова появляется в определениях: прошедшее и будущее.
Напротив, вечное — это настоящее. Для мысли вечное есть настоящее как снятая последовательность (время и было этой последовательностью, которая теперь пре ходит). Для представления это — продвижение вперед, которое, однако же, не трогается с места, поскольку для него вечное есть бесконечное, лишенное содержания настоящее. Стало быть, в вечном нет разделения на прошедшее и будущее, поскольку настоящее положено здесь как снятая последовательность.
Время, стало быть, есть бесконечная последовательность; жизнь, которая находится во времени и принадлежит только времени, не имеет в себе ничего настоящего. Чтобы определить чувственную жизнь, обычно говорят, что она пребывает в мгновении, и только в мгновении. При этом под мгновением понимают абстракцию вечного, каковая, если она понимается как настоящее, становится пародией на вечность. Настоящее — это вечное, или, точнее, вечное — это настоящее, а настоящее есть исполненное. В этом смысле некий римлянин сказал о божестве, что оно praesens (praesentes dii), и это слово, употребленное по отношению к божеству, обозначало также его мощную поддержку. Мгновение обозначает настоящее как таковое, то, что не имеет ничего прошедшего и ничего будущего; ведь именно в этом и заложено несовершенство чувственной жизни. Вечное также обозначает настоящее, не имеющее ни прошедшего, ни будущего, — в этом и состоит совершенство вечного.
Если теперь некто пожелает использовать мгновение, чтобы определить время, чтобы мгновение обозначало чисто абстрактное исключение прошедшего и будущего, в качестве такового обозначая теперь настоящее, окажется, что мгновение как раз и не будет настоящим, ибо чистого, абстрактно помысленного промежуточного звена между прошедшим и будущим вообще нет. При этом ясно, что мгновение — это не просто определение времени, поскольку временное определение состоит в том, чтобы «проходить»; потому время, если оно определяется через одно из определений, делающихся явными во времени, есть время прошедшее. Если же, напротив, время и вечность касаются друг друга, это должно происходить во времени, вот тут-то мы и подходим к мгновению.
«Мгновение» — это фигуральное выражение, и потому с ним не так-то легко иметь дело. И однако же, это красивое слово, достойное внимания. Ничто не бывает таким мимолетным, как «мгновение ока», и вместе с тем оно соизмеримо с содержимым вечности. Когда Ингеборг глядит на море в надежде увидеть Фритьофа, это как раз и есть образ того, что обозначает такое фигуральное выражение. Взрыв ее чувств, вздох, слово уже в качестве звука содержат в себе больше определения времени, и являются более настоящими в смысле постоянного исчезновения, и не имеют в себе в такой уж степени присутствия вечного. Между тем вздох, слово и тому подобное имеют власть снимать тяжесть с души — именно потому, что тяжесть — просто оттого, что ее высказывают, — уже начинает становиться чем-то прошедшим. Потому мгновение ока — это обозначение времени, однако, заметьте, времени в роковом столкновении, когда времени касается вечность . То, что мы называем мгновением, Платон называл внезапным (?? ???). Каким бы ни было его этимологическое объяснение, оно все же стоит в связи с определением «невидимое», поскольку время и вечность постигались тогда одинаково абстрактно, так как понятие временности отсутствовало, причиной чего, в свою очередь, было то, что отсутствовал дух. По-латыни мгновение называется momentum (от movere — двигаться (лат.), что посредством этимологического выведения обозначает просто нечто исчезающее .
Понимаемое таким образом мгновение — это, собственно, не атом времени, но атом вечности. Оно есть первое отражение вечности во времени, ее первая попытка как бы остановить время. Поэтому греческая культура не понимала мгновения, и если бы даже она понимала атом вечности, ей никак не дано было понять, что это мгновение; греческая культура определяла его не вперед, но назад, поскольку атом вечности для греческой культуры был по сути своей этой вечностью, а потому ни время,