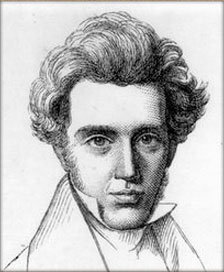все его существо, примет ли он все ее следствия, не подготовит ли он на всякий случай лазейку для самого себя и поцелуй Иуды для последствий этой истины.
В новейшие времена уже достаточно много говорилось об истине; сейчас же пора сделать значимыми уверенность и внутренний смысл, и не в абстрактном смысле, в котором трактовал это Фихте, но совершенно конкретно.
Уверенность, внутренний смысл, которые достижимы только посредством действия и в действии, как раз и решают, демоничен индивид или нет. Если только твердо придерживаться этой категории, все прочее расступается, и становится например, ясно, что своеволию, неверию, насмешке над религией недостает не содержания, как обычно полагают, а уверенности, причем совершенно в том же смысле, в каком ее не хватает суеверию, раболепию, ханжеству. Негативным явлениям недостает уверенности именно потому, что они пребывают в страхе перед содержанием.
У меня нет желания говорить высокие слова обо всей нашей эпохе; но тот, кто наблюдал ныне живущее поколение, едва ли может отрицать, что неверное отношение, вследствие которого оно страдает, а также причина его страха и беспокойства заложены в том, что, с одной стороны, истина прирастает в своем охвате и величине, отчасти даже в своей абстрактной ясности, тогда как, с другой стороны, уверенность постоянно уменьшается. Какие только сверхъестественные метафизические и логические усилия ни предпринимались в наше время, чтобы только предложить некое новое, исчерпывающее доказательство бессмертия души, абсолютная правильность которого объединяла бы все более ранние доказательства, но, как ни странно , когда это я, уверенность еще более сокращается. Мысль о бессмертии несет в себе некую силу, в своих следствиях — некую весомость, а в своем приятии некую ответственность, которая, вероятно, способна перекроить всю жизнь настолько что человек это боится. А потому такой человек успокаивает и освобождает свою душу, напрягая мышление в поисках нового доказательства. Да и что представляет собой такое доказательство, как не «добрые дела» в чисто католическом смысле слова! Каждая подобная индивидуальность, которая — если уж придерживаться приведенного примера — умеет выдвигать доказательства бессмертия души, однако сама вовсе не убеждена в этом, всегда будет страшиться всякого явления, которое затрагивает ее таким образом, что она вынуждена искать более глубокого понимания того, как же человек может в самом деле быть бессмертным. Э то будет тревожить индивида, он будет чувствовать себя болезненно задетым, когда совсем простой человек станет совсем просто говорит о бессмертии. В противоположном же направлении ему может недоставать внутреннего смысла. Последователь самой суровой ортодоксии вполне может быть демоничен. Ему все это прекрасно известно, он преклоняет колени перед святыми, истина для него — это внутреннее понятие церемоний, он говорит о встрече перед престолом Божьим, и ему известно, сколько раз там нужно поклониться; ему известно все — совсем как человеку, который может доказать математическую теорем, когда там стоят буквы АВС, но не тогда, когда их заменяют на DEF. Поэтому ему становится страшно, как только он слышит нечто, не являющееся буквальным повторением прежнего. И как же он похож на современного спекулятивного мыслителя, который обнаружил новое доказательство бессмертия души, но теперь попал в смертельную опасность, поскольку не может предъявить это доказательство, не имея при себе своих тетрадок! И чего же не хватает им обоим? Конечно, уверенности.
Суеверие и неверие оба являются формами несвободы. В суеверии самой объвктивности — как голове Медузы — приписывается власть обращать в камень субъективность, и несвободе вовсе не хочется, чтобы заклятие было снято. Для неверия же высшим и на первый взгляд самым свободным выражением является насмешка. Однако насмешке не хватает как раз уверенности, именно поэтому она и насмехается.
И существование скольких насмешников, если бы к ним только можно было заглянуть в душу, напомнило бы о том страхе, с которым демоническое восклицает: «?? ???? ??? ??? !» («Что у меня общего с тобою!» (греч.)) Вот уж поистине примечательное явление: вероятно, немногие столь тщеславны и ранимы в том, что касается минутной славы, как насмешники.
С каким старательным усердием, жертвуя своим временем, прилежанием и писчебумажными материалами, спекулятивные мыслители в наше время трудились над тем, чтобы предъявить всеобъемлющее доказательство существования Бога. Однако по мере того как растет совершенство доказательства, похоже, что уверенность уменьшается. Мысль о существовании Бога, как только она полагается как таковая для свободы индивида, обладает некой вездесущностью, которая, если даже человек не желает действовать во зле, содержит нечто неловкое для всякого осмотрительного индивида. И поистине нужен внутренний смысл, чтобы жить в прекрасном и внутреннем единстве с этим представлением; и это гораздо более трудный фокус, чем быть образцовым супругом. Каким болезненно задетым должен поэтому чувствовать себя такой индивид, когда он слышит совсем простые и наивные речи о том, что Бог все-таки есть. Построение доказательства существования Бога есть нечто, чем можно научно и метафизически заниматься только от случая к случаю, однако мысль о Боге настойчиво навязывает себя человеку при всех обстоятельствах. Чего же не хватает такой индивидуальности? Конечно, внутреннего смысла. Внутреннего смысла может недоставать и в ином плане. Так называемые «святоши» часто бывают предметом насмешек мира. Сами они объясняют это тем, что мир лежит во зле.
Это, однако же, не совсем верно. Если подобный святоша не свободен в своем отношении к собственному благочестию, то есть если ему при этом не хватает внутреннего смысла, он с чисто эстетической точки зрения оказывается комичным. А значит, и мир тут прав, когда смеется над ним.
Когда кривоногий человек желает выступать в роли танцмейстера, но при этом не в состоянии показать ни одной танцевальной позы, он комичен. Точно так же обстоит дело и с особой духовного звания. Нетрудно заметить, что подобный святоша как бы отсчитывает про себя такт, совсем как человек, который не умеет танцевать, но довольно сносно разбирается в танцах, чтобы уметь отсчитывать такт, пусть даже ему никогда не везет настолько, чтобы он к тому же мог попасть в такт, танцуя. Точно так же святоша знает, что религиозное всегда абсолютно соизмеримо, что религиозное — это не что-то, свойственное лишь определенным случаям и мгновениям, он знает, что религиозное всегда можно иметь при себе. Однако когда он уже собирается сделать его соизмеримым, он оказывается несвободен, и нетрудно заметить, как он тихонько отсчитывает такт про себя, причем, несмотря ни на что, он все время ошибается и дела складываются неудачно — со всеми его взглядами, обращенными к небу, сложенными руками и тому подобным. Потому такой индивид столь страшится каждого, кто не имел подобной тренировки, а для того чтобы приободрить себя, он и хватается за все эти грандиозные наблюдения относительно того, что мир ненавидит благочестивых.
Стало быть, уверенность и внутренний смысл — это действительно субъективность, хотя и не в прежнем, совершенно абстрактном смысле. Вообще, несчастье новейшей науки состоит в том, что все стало ужасно грандиозным. Абстрактная субъективность столь же не уверена в себе и в той же степени лишена внутреннего смысла, как и абстрактная объективность. Когда об этом говорят in abstracto, это невозможно заметить, и потому правильно будет утверждать, что абстрактной субъективности не хватает содержания. Когда же об этом говорят in concreto, такое содержание ясно проявляется, поскольку индивидуальности, которая стремится превратить себя в абстракцию, точно так же недостает внутреннего смысла, как и той индивидуальности, которая превращает себя просто в церемониймейстера.
в) Схема исключения или отсутствия внутреннего смысла. Отсутствие внутреннего смысла — это всегда некое определение рефлексии, а потому всякая форма становится двойственной формой. Поскольку люди привыкли рассуждать об определениях духа совершенно абстрактно, никто обычно не склонен в них чересчур вглядываться. Чаще все это полагается так: непосредственность и противостоящая ей рефлексия (внутренний смысл), а затем синтез (или субстанциальность, субъективность, тождество, как бы это тождество ни называлось: разум, идея, дух). Однако в сфере действительности все не так. Тут непосредственность — это вместе с тем и непосредственность внутреннего смысла. Поэтому отсутствие внутреннего смысла прежде всего зависит от рефлексии.
Потому всякая форма отсутствия внутреннего смысла — это либо активность-пассивность, либо пассивность-активность, и какой бы они ни была — первой или второй, — она пребывает в сфере само-рефлексии. Сама форма проходит через существенную серию нюансов, по мере того как определение внутреннего смысла становится все конкретнее и конкретнее.
Согласно старой поговорке, «понимать и понимать — две разные вещи», и это действительно так. Внутренний смысл — это одно понимание, однако in concreto важно то, как следует понимать такое понимание. Понимать речь — это одно, но понимать, к чему она относится, — совсем другое; понимать то, что говорит человек, — это одно, понимать же его самого из сказанного им — совсем другое. Чем конкретнее содержание сознания, тем конкретнее становится понимание, и коль скоро такое понимание отсутствует в отношении к сознанию, мы имеем дело с проявлением несвободы, которая стремится отгородить себя от свободы. Если мы возьмем, например, конкретное религиозное сознание, которое одновременно содержит в себе исторический момент, понимание должно вступать в отношение к нему. Поэтому мы можем рассмотреть здесь пример двух соответствующих форм демонического. Если, скажем, некий суровый ортодокс приложит все свое старание и ученость, чтобы доказать тезис, согласно которому каждое слово Нового завета имеет своим источником соответствующего апостола, внутренний смысл для него постепенно исчезнет, и он в конце концов будет понимать нечто совершенно отличное от того, что ему хотелось понять. Если некий свободомыслящий приложит всю свою проницательность, чтобы показать, что Новый завет был написан только во втором веке, это значит, что он боится как раз внутреннего смысла, и потому ему просто необходимо поставить Новый завет в один ряд со всеми прочими книгами . Самое конкретное содержание, каким может обладать сознание, — это сознание самого себя как индивида, — не чистое самосознание, но самосознание, которое настолько конкретно, что ни один писатель, даже самый богатый словами, даже самый мощный в своих описаниях, еще не был способен представить хоть одно такое сознание, а между тем каждый человек как раз и является таким сознанием. Самосознание — это не созерцание, и тот, кто полагает, будто оно таково, не понял сам себя, ибо он видит, что сам одновременно находится в становлении, а потому ничем и не может быть для отгороженности созерцания. Значит, это самосознание есть действие, а такое действие, в свою очередь, есть внутренний смысл; и всякий раз, когда внутренний смысл не соответствует этому сознанию, мы получаем какую-то форму демонического, коль скоро отсутствие внутреннего смысла проявляет себя наружно как страх