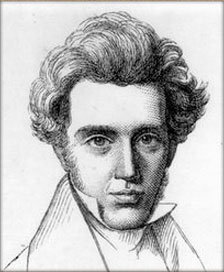нескольких детей. Предположим теперь, что он искренне воодушевляется, однако огонь может и гаснуть, этот священник будет, скажем, потрясать и трогать людей, но один раз больше, а другой — меньше. Только серьезность способна regelma Big («равномерно», «упорядоченно» (нем.)) каждое воскресенье возвращаться к тому же самому с равной оригинальностью .
Однако это «то же самое», к которому серьезность должна снова возвращаться все с той же серьезностью, может быть только самой этой серьезностью; в противном случае она станет педантизмом. Серьезность в том смысле означает саму личность, и лишь такая серьезная личность и есть действительная личность, и лишь серьезная личность может делать что-то с серьезностью; ибо, для того чтобы делать нечто с серьезностью, необходимо прежде всего знать, что выступает предметом этой серьезности.
В жизни нередко говорят о серьезности; один серьезно относится к государственному долгу, другой — к категориям, третий — к театральной постановке и так далее. Ирония быстро обнаруживает, что все это происходит таким образом, и здесь ей есть чем заняться; ибо каждый, кто серьезен не там, где нужно, ео ipso («тем самым» (лат.)) комичен, хотя столь же комичное травестированное окружение и мнение такого окружения могут относиться к этому в высшей степени серьезно. Потому нет более точного масштаба, помогающего определить, к чему в своей глубочайшей пригоден индивид, чем выяснение, к чему же в своей жизни он относится серьезно, а это можно узнать благодаря собственной разговорчивости человека, а можно хитростью вытащить из него его тайну. Ведь человек вполне может родиться с определенным настроением, но вот с серьезностью он никогда не рождается. Само выражение «то, к чему в своей жизни он относится серьезно» должно, естественно, пониматься в строгом смысле слова как то, из чего индивид в глубочайшем смысле выводит свою серьезность, ибо после того как человек поистине стал серьезен относительно того, что является предметом серьезности, он может, пожелай он теперь этого, серьезно обходиться с самыми разными вещами, однако вопрос состоит в том, стал ли человек прежде серьезен относительно предмета серьезности. Такой предмет присущ каждому человеку — ибо это он сам, — и тот, кто не стал серьезным относительно этого, но приобрел серьезность относительно чего-то другого, чего-то громадного и шумного, — тот, несмотря на всю свою серьезность, просто шутник, и даже если ему и удается некоторое время обманывать иронию, ему все же еще придется, deo volente («если будет на то воля Божья» (лат.)), стать комичным; ибо ирония ревнует к серьезности. И наоборот, тот, кто серьезен там, где нужно, доказывает здравие своего духа именно тем, что он способен обходиться со всем прочим как чувствительно, так и шутливо, — пусть даже дураки серьезности холодеют, когда он шутливо трактует нечто, по поводу чего они стали так ужасно серьезны. Но вот в том, что касается серьезности, он не потерпит никаких шуток; стоит ему забыть об этом, с ним может приключиться то же, что и с Альбертом Великим, когда тот высокомерно похвалялся перед божеством своей спекулятивной философией , — и вдруг совершенно поглупел, или же то, что случилось с Беллерофоном, который спокойно садился на Пегаса, пока служил идее, но сразу же свалился с него, как только попробовал злоупотребить Пегасом, заставляя его везти себя на свидание с земной женщиной. Внутренний смысл, уверенность — это и есть серьезность. Это кажется несколько скудным; если бы я по крайней мере сказал, что это субъективность, чистая субъективность, ubergreifende («всеохватывающий» (нем.)) субъективность, — тут я сказал бы хоть что-нибудь, и это наверняка сделало бы кого-то серьезным. Однако я могу выразить серьезность также и другим способом.
Как только не хватает внутреннего смысла, дух оказывается конечным. Стало быть, внутренний смысл — это вечность или вечное определение человека.
Если действительно стремиться к тому, чтобы исследовать демоническое, нужно всего лишь обратить внимание на то, как постигается вечное в индивидуальности, и сразу же можно во всем разобраться. В этой связи новейшее время предлагает самое широкое поле для наблюдений. О вечном в наши дни говорят достаточно много, его отвергают и принимают, и надо сказать, что как первое, так и второе (в зависимости от способа и метода, которым это делается) выдает недостаток внутреннего смысла. Однако тому, кто не понял вечное по достоинству, не понял совершенно конкретно , — ему не хватает внутреннего смысла и серьезности.
Мне хотелось бы здесь говорить подробнее; тем не менее я укажу на некоторые моменты.
а) Некоторые отрицают вечное в человеке. Но в то же самое мгновение «der Lebenswein (ist) ausgeschenkt» («вино жизни пролито» (нем.)), и каждая такая индивидуальность оказывается демонической. Если же полагается вечное, настоящее оказывается чем-то другим, чем его желает видеть человек. Человек боится этого и тем самым оказывается в страхе перед добром. Он может теперь продолжать отрицание вечного сколь угодно долго, все равно тем самым ему не удастся целиком изгнать жизнь из вечного. И даже если он уже готов признать вечное до определенной степени и в определенном смысле, он все равно будет бояться его в некотором ином смысле и в более высокой степени; но как бы активно он при этом ни отрицал вечное, ему все равно не избавиться от него целиком. В наши дни вечного боятся слишком сильно, даже если нечто подобное признается в абстрактных и весьма лестных дня вечного выражениях. В то время как сегодня некоторые правительства живут в страхе перед разными там буйными головами, слишком многие индивиды живут в страхе перед одной лишь буйной головой, которая на самом-то деле является истинным местом успокоения, — перед вечностью. Потому они возвещают о мгновении, и точно так же как путь к гибели вымощен благими намерениями, вечность легче всего уничтожить одними лишь мгновениями. Но отчего же люди так ужасно спешат? Если даже нет никакой вечности, мгновение все равно столь же долго, как если бы она была. Но страх перед вечностью превращает мгновение в абстракцию. Впрочем, такое отрицание вечного может выражаться непосредственно и опосредованно самыми разнообразными способами: как издевка, как прозаичное самоопьянение рассудочностью, как деловитость, как воодушевление временным.
b) Некоторые постигают вечное совершенно абстрактно. Подобно голубым горам, вечное является границей временности, но тот, кто мощно живет внутри временности, никогда не достигает границы. Единичный индивид, который выглядывает наружу в поисках вечности, оказывается пограничным постовым, который стоит за пределами времени.
с) Некоторые пригибают вечное внутрь времени рад воображения. Понимаемое таким образом вечное оказывает чарующее воздействие, человек уже не знает, мечта это или действительность. Вечность со своими мечтательными мыслями печально или лукаво заглядывает внутрь мгновения, подобно тому как лунный свет мерцает в освещенной роще или зале. Мысль о вечном становится фантастическим конструированием, настроение же все время остается тем же: «Я ли тут вижу все это во сне, или это вечность видит сны обо мне?»
А некоторые даже просто и прямо, без всякого там кокетливого двойственного смысла, постигают вечность как нечто, пригодное лишь для фантазии. Подобное постижение нашло себе определенное выражение в тезисе: «Искусство — это предвосхищение вечной жизни»; а ведь поэзия и искусство являются примирением только для фантазии, они вполне могут обладать Sinnigkeit («чувственность» (нем.)) интуиции, но уж никак не Innigkeit («внутреннее» (нем.)) серьезности. Некоторые рисуют вечность мишурой фантазии, а потом сами же томятся по ней. Некоторые видят вечность на апокалиптический манер, они подражают Данте, между тем как сам Данте, как бы он ни уступал взгляду воображения, все-таки никогда не снимал действия этического акта суждения.
d) Некоторые постигают вечность метафизически. Человек твердит «Ich — Ich» так долго, что он сам становится самым смешным из всего возможного: чистым «я», вечным самосознанием. Некоторые так долго говорят о бессмертии, что в конце концов сами становятся не бессмертными, но бессмертием. И, несмотря на все это, они внезапно обнаруживают, что бессмертие так и не удалось включить в систему, а потому они сосредоточиваются теперь на том, чтобы обеспечить ему местечко в приложении. В связи со всеми этими смешными происшествиями, справедливыми остаются слова Поуля Меллера о том, что бессмертие должно присутствовать повсюду. Но если это так, временность превращается во что-то совсем иное, чем они желали. Или же некоторые постигают вечность метафизически, так что временность комически сохраняется в ней. С чисто эстетически-метафизической стороны временность комична. ибо она есть противоречие, а комическое всегда лежит внутри этой категории. Если вечность постигается теперь чисто метафизически, а вместе с тем, по той или иной причине, в ней желают также сохранить временность, конечно же оказывается довольно комичным, что вечный дух сохраняет воспоминание о том, что он много раз попадал в денежные затруднения. Однако все усилия, которые предпринимаются, чтобы укрепить вечность, оказываются напрасными, превращаются в ложную тревогу, — ведь чисто метафизическим образом ни один человек не становится бессмертным, и ни один человек не становится уверен в своем бессмертии. Однако, если он получает уверенность в этом некоторым другим образом, комическое не навязывает себя ему. И пусть даже христианство наставляет о том, что человек должен будет дать отчет в каждом суетном слове, произнесенном им, а мы понимаем это просто как предположение о полном припоминании, безошибочные признаки которого порой встречаются уже здесь, в этой жизни, — пусть даже учение христианства не может, наверное, найти себе лучшего освещения, чем в том резком противопоставлении, которое предлагалось в представлении греческой культуры, в соответствии с которым бессмертным нужно прежде всего испить из Леты, чтобы забыть, — все равно отсюда никоим образом не следует, что воспоминание непременно должно непосредственно или опосредованно становиться комичным, — непосредственно, поскольку человек вспоминает о самых смехотворных вещах, опосредованно же, поскольку эти смехотворные вещи преобразуются в существенные решения. Именно потому, что необходимость давать отчет и сам суд — это нечто существенное, существенное и будет действовать, подобно летейскому питью, на несущественное, хотя конечно же при этом существенным окажется многое такое, о чем вы никогда бы так не подумали. В забавных пустяках жизни, в ее случайностях, во всех ее угловатостях и неловкостях жизнь не присутствует существенным образом, потому все это прейдет, но только не для души, которая существенно присутствует в них, но для которой они едва ли получат комический смысл. Если человек целенаправленно размышлял о комическом, если он изучал его как знаток, постоянно проясняя свои категории, такому человеку нетрудно будет понять, что комическое принадлежит именно временности, ибо тут содержится противоречие. С метафизической и эстетической стороны человек не может остановить его, не может помешать ему