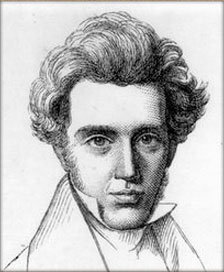его неотразимым. Он пленяет девушку и ощущает себя на вершине счастья. Вот теперь-то и наступает решающий момент; может ли он признаться в этом, не потеряет ли он всю свою силу очарования, если окажется, что он совершенно обыкновенный, даже лысый мужчина, не потеряет ли он из-за этого свою возлюбленную? Сокрытость — это его свободное действие, за которое его призывает к ответственности даже эстетика. Такая наука не приятельствует с лысыми лицемерами, она отдает их во власть нашего смеха. Этого должно быть довольно, чтобы указать намеком, что я имею в виду: комическое не может составлять предмет интереса данного исследования.
Путь, которым я иду здесь, состоит в том, чтобы провести сокрытое диалектически между эстетикой и этикой; поскольку важно показать, что эстетическая сокрытость и парадокс абсолютно отличны друг от друга.
Еще пара примеров. Девушка тайно влюблена в какого-то человека, причем они еще не признались друг другу открыто в своей любви. Родители принуждают ее выйти замуж за другого (ее поведение может даже определяться соображениями долга), она повинуется родителям, она скрывает свою любовь, «чтобы не сделать другого несчастным, и никто не должен знать, как она страдает». Юноша в свою очередь может благодаря одному-единственному слову получить в обладание предмет своих желаний и беспокойных снов. Но это словечко скомпрометирует, может быть, даже (кто знает?) погубит всю семью; он великодушно решает остаться внутри своей сокрытости, «девушка никогда не должна об этом узнать, так что она, возможно, еще будет счастлива с другим». Жаль, что эти два человека, оба и каждый для себя, скрываются от своих нареченных и скрываются также друг от друга, ведь в противном случае здесь могло бы сложиться замечательное и более высокое единение. Их сокрытость есть свободное действие, за которое они несут ответственность также и перед эстетикой. Между тем эстетика — это учтивая и чувствительная наука, которой ведомо больше возможных исходов дела, чем какому-нибудь домоправителю. И что же она делает? Она делает все возможным для любящих. С помощью случайности соответствующие партнеры грядущих супружеских союзов узнают о великодушном решении своих половин, дело доходит до объяснения, любящие обретают друг друга и одновременно — статус настоящих героев; ведь, несмотря на то что им не пришлось провести вместе даже одной ночи, эстетика, придерживаясь своего великодушного решения, все равно рассматривает их как людей, которые целыми годами мужественно боролись за свое решение. Эстетика ведь не особенно заботится о времени, оно проходит для нее одинаково быстро, будь то в шутке или серьезно.
Однако этике ничего не известно ни о случайности, ни о чувствительности, у нее нет и мимолетного представления о времени. Тем самым дело приобретает иной вид. С этикой невозможно спорить, поскольку она использует чистые категории. Она не опирается на опыт, который является, пожалуй, самым смешным из всего, и она столь далека от того, чтобы делать человека мудрым, что она скорее уж сводит его с ума, коль скоро он не знает ничего более высокого, чем знает она. Этике ничего не известно о случайности, а значит, дело не доходит до объяснений; она не играет с мыслями о достоинстве, она возлагает ужасную ответственность на слабые плечи героя, она клеймит как нечто предосудительное его желание поиграть в Провидение в собственных действиях, однако она осуждает его также за стремление проделать то же самое со своими страданиями. Она призывает довериться действительности и иметь довольно мужества, чтобы бороться со всеми утеснениями этой действительности, вместо того чтобы бороться с этими бескровными страданиями, которые человек взял на себя под свою собственную ответственность; она предостерегает от того, чтобы доверяться хитрым расчетам рассудка, которые вероломнее античных оракулов. Она предостерегает от всякого неуместного великодушия; пусть действительность сама привнесет это, тогда и будет подходящее время, чтобы выказать мужество, тогда и сама этика предложит всякое возможное содействие. Между тем, если бы в этих двоих ощущалось нечто более глубокое, если бы можно было различить там серьезность, некую задачу, будь там серьезное стремление начать, из них наверняка что-то могло бы получиться; но этика никак не может помочь им, она оскорблена; они ведь хранили все в тайне от нее, в тайне, которую они завели под собственную ответственность.
Стало быть, эстетика требовала сокрытости и вознаграждала ее. Этика требовала явленности и наказывала сокрытость.
Порой, однако же, и сама эстетика требует открытости. Когда герой, остающийся пленником эстетической иллюзии, верит, будто может спасти другого человека благодаря своему молчанию, эстетика требует этого молчания и вознаграждает его. И напротив, когда герой своим поступком вторгается в жизнь другого человека, она требует открытости. Теперь я остановлюсь на трагическом герое. Мне хотелось бы сейчас рассмотреть Еврипидову «Ифигению в Авлиде». Агамемнон должен принести Ифигению в жертву. Эстетика в той мере требует от Агамемнона молчания, в какой герою недостойно искать утешения у какого-либо другого человека, точно так же как из жалости к женщинам он должен возможно больше скрывать это от них. С другой стороны, герой, как раз для того, чтобы быть героем, должен быть также испытан в ужасном искушении, уготованном ему слезами Клитемнестры и Ифигении. И что же делает эстетика? У нее есть выход: она держит наготове старого слугу, который открывает все Клитемнестре.[96] Теперь все идет своим чередом.
Между тем у этики нет под рукой никакой случайности и никакого старого слуги. Эстетическая идея противоречит самой себе, как только она должна быть воплощена в реальности. Поэтому этика требует явленности. Трагический герой демонстрирует свое этическое мужество как раз тем, что он, не будучи в плену у эстетических иллюзий, сам вынужден рассказать Ифигении о ее участи. Если он это сделает, этот трагический герой становится любимым сыном этики, сыном, на котором почиет ее благословение. Если же он промолчит, это может быть так оттого, что он надеется тем самым сделать это более легким для других, или же это может происходить оттого, что он надеется тем самым сделать это более легким для себя самого. Но он знает, что уж от этого-то он свободен. Если он промолчит, значит, он в качестве единичного индивида принимает ответственность на себя, поскольку он не берет в расчет аргумент, приходящий извне. В качестве трагического героя он не может этого сделать; ведь этика любит его как раз за то, что он постоянно выражает всеобщее. Его героическое деяние требует мужества, но в это мужество также входит и то обстоятельство, что он не избегает никакого аргумента. Совершенно ясно, что слезы являются ужасным argumentum ad hominem,[97] и существуют многие люди, которых уже ничто не волнует, но которых все же трогают слезы. В пьесе у Ифигении есть позволение рыдать, в действительности же ей нужно было, как дочери Иеффая, дать два месяца на то, чтобы плакать, причем не в одиночестве, но у ног отца, чтобы прибегнуть ко всему своему искусству, «которое все — одни только слезы», и, подобно оливковой ветви,[98] обвиться вокруг его коленей (стих 1224).
Эстетика требовала сокрытости, но обходилась случайностью; этика требовала явленности и находила свое удовлетворение в трагическом герое.
Несмотря на всю суровость, с которой этика требует явленности, невозможно отрицать, что таинственность и молчание, собственно, и приобщают человека к величию, именно потому, что они суть определения внутреннего. Когда Амур покидает Психею,[99] он говорит ей: «Ты родишь ребенка, который будет божественным, если ты сохранишь молчание, или человеческим, если ты выдашь тайну». Трагический герой, любимец этики, целиком является человеком; я тоже способен его понять, и все, им предпринимаемое, разыгрывается в открытую. Если я пойду дальше, я буду постоянно наталкиваться на парадокс, на божественное и демоническое, ибо молчание есть и то, и другое. Молчание — это чары демона, и чем больше умалчивают о чем-то, тем ужаснее становится демон; однако молчание есть также взаимопонимание божества с единичным индивидом.
Прежде чем я снова перейду к повести об Аврааме, мне хотелось бы представить вам пару поэтических индивидуальностей. Благодаря силе диалектики я буду держать их на вершине и, взмахивая над ними хлыстом отчаяния, я помешаю им стоять на месте, так, чтобы в своем страхе они по возможности выдали нам ту или другую деталь.*
* Эти движения и позы также могут стать предметом эстетического рассмотрения, но вопрос о том, насколько таким предметом могут стать вера и вся жизнь веры, я оставляю здесь открытым. Я лишь хочу — поскольку мне всегда доставляет удовольствие благодарить тех, кому я чем-то обязан, — поблагодарить Лессинга[100] за несколько существенных намеков о христианской драме, которые можно найти в «Гамбургской драматургии». Однако он обратил свой взгляд на чисто божественную сторону этой жизни (на достигнутую им победу), а потому и впал в отчаяние; возможно, будь он внимательнее к чисто человеческой стороне (theologia viatorum[101]), он рассудил бы иначе. То, что он говорит, несомненно, весьма кратко, временами даже уклончиво, однако я всегда очень рад, когда мне представляется случай процитировать Лессинга, я всегда охотно это делаю. Лессинг был не просто одним из самых всеобъемлющих умов, рожденных Германией; он обладал не просто весьма редкой четкостью в своих сведениях, благодаря чему можно целиком положиться на него и его свидетельства, не боясь заблудиться в оборванных цитатах, в ни к чему не обязывающих, наполовину разобранных фразах, выдернутых из ненадежных компендиев, не боясь потерять ориентировку в глупейшей рекламе новинок, которые намного лучше были изложены древними; в довершение всего ему свойствен один в высшей степени необычный дар: разъяснять то, что он понял сам. И на этом он обычно останавливался, тогда как в наше время человек, как правило, идет дальше и объясняет больше, чем он сам понял.
Аристотель рассказывает в своей «Политике»[102] историю о политических беспорядках в Дельфах, которые имели своей причиной супружество. Жених, которому авгуры предсказали несчастье, с неизбежностью вытекающее из будущей женитьбы, внезапно меняет свои планы в то решающее мгновение, когда он собирался уже вести невесту, короче, он отказывается от свадьбы. Больше мне ничего не нужно.* В Дельфах это конечно же не могло пройти без слез; если поэт собирается взять этот сюжет, он может вполне рассчитывать на сочувствие. Разве не ужасно, что любовь, которая так часто ускользает и в жизни, теперь оказывается лишенной и небесной поддержки? И разве не посрамляется тут старое присловье, согласно которому браки заключаются на небесах? Обычно именно утеснения и трудности конечного, как злые духи, пытаются разлучить любящих, однако на стороне любви — небо, и потому этот священный альянс побеждает всех врагов. Здесь же само небо разделяет то, что небо и