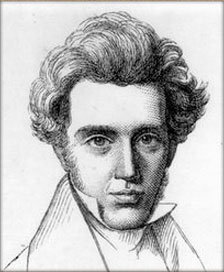даже грандиозным трагическим героем, если он заговорит. Немногие, вероятно, поймут, в чем, собственно, состоит грандиозное.* Тогда у него будет достаточно мужества, чтобы самому вырваться из самообмана, будто он способен сделать Агнету счастливой своим искусством; у него будет достаточно мужества, чтобы, с человеческой точки зрения, сокрушить Агнету. В остальном же я сделаю здесь лишь еще одно психологическое замечание. Чем больше в Агнете развит эгоизм, тем более завораживающим будет и самообман, по сути, не так уж невозможно, что в действительности это морское чудище, в силу своей демонической искусности, не только, с человеческой точки зрения, спасет Агнету, но и добьется от нее чего-то поразительного, ведь демон умеет развернуть нечто изумительное даже из слабейших человеческих сил, и по-своему он очень хорошо обходится с человеком.
* Порой эстетика рассматривает нечто подобное со своей обычной угодливостью. Морское чудище будет спасено благодаря Агнете, и все заканчивается счастливым браком. Счастливым браком! Действительно, очень удобно. Напротив, если бы речь на брачном пиру держала этика, думаю, все происходило бы совсем иначе. Эстетика набрасывает на морское чудище плащ любви, и потому все забыто. Она также достаточно беззаботна, чтобы полагать, будто во время свадьбы все происходит, как на аукционе, где все продается при условии, что это происходит под удары молоточка. Она заботится только о том, чтобы любящие получили друг друга, остальное ее не волнует. Ей стоило бы просто подумать о том, что происходит потом; но на это у нее нет времени, она уже целиком захвачена тем, чтобы свести вместе новую любовную пару. Эстетика — самая неверная из всех наук. Каждый, кто ее истинно любил, в определенном смысле становится несчастным; тот же, кто ее никогда не любил, был и остается pecus (лат.: «болван», «глупец», букв.: «вол»).
Чудище морское стоит на диалектической вершине. Если же он спасается от демонического в раскаянии, для него возможны два пути. Он может удерживаться позади, оставаться в сокрытости, но не зависеть от своей искусности. Тогда он не вступает в качестве единичного индивида в абсолютное отношение с демоническим, но обретает покой в противоположном парадоксе, согласно которому божество спасет Агнету. (В средние века движение наверняка было бы сделано таким образом, и по тем понятиям морское чудище конечно же должно было уйти в монастырь.[107]) Или же оно может быть спасено через Агнету. Это не следует понимать таким образом, будто благодаря любви Агнеты водяной будет спасен от того, чтобы быть соблазнителем в будущем (это эстетическая попытка спасения, которая всегда обходит стороной главное — то есть непрерывность в жизни морского чудища); ибо в этом отношении он уже спасен; он будет спасен в той мере, в какой он станет открытым. Тогда он женится на Агнете. При этом он все равно должен прибегнуть к парадоксу. Ибо когда единичный индивид по своей собственной вине выходит за пределы всеобщего, он может вернуться туда только силой того, что он в качестве единичного индивида вступает в абсолютное отношение с абсолютом. Здесь я сделаю еще одно замечание, посредством которого мне удастся сказать больше, чем было сказано где-либо в предшествующем изложении*.[108] Грех — это не первая непосредственность, грех — это позднейшая непосредственность. В грехе единичный индивид уже в терминах демонического парадокса стоит выше всеобщего, поскольку это явно противоречие со стороны всеобщего — самому требовать самое себя от того, кто лишен conditio sine qua non **. Если бы философия среди прочих дел подумала также и о том, чтобы человеку нравилось действовать в соответствии с ее учением, из этого получилась бы любопытная комедия. Этика, игнорирующая грех, — это совершенно бесполезная наука, однако стоит ей сделать грех значимым, как она ео ipso выходит за собственные пределы. Философия учит, что непосредственное должно быть снято.[109] Это, разумеется, истинно; однако что неверно, так это то, что грех сразу же является непосредственным, точно так же как неверно и то, что вера сразу же является непосредственным.
* В предшествующем рассмотрении я усердно избегал всех упоминаний вопроса о грехе и его реальности. Все было направлено на Авраама, а к нему я могу приблизиться сейчас благодаря непосредственным категориям, во всяком случае, насколько я вообще способен его понять. Но как только появляется грех, этика разрушается, она подорвана раскаянием; ибо раскаяние есть высочайшее этическое выражение, но как раз в качестве такового оно является и глубочайшим этическим внутренним противоречием.
** — «необходимое условие» (лат.).
Пока я двигаюсь в этих сферах, все идет достаточно легко, но то, что сказано здесь, вообще не объясняет Авраама; ведь Авраам не стал единичным индивидом посредством греха, наоборот, он был человеком праведным, избранником Божьим. Аналогия с Авраамом проявится только после того, как единичный индивид окажется в состоянии осуществить всеобщее, — вот тут-то парадокс и повторится.
Поэтому я могу понять движения морского чудища, тогда как Авраама я понять не способен; ведь тот приходит к парадоксу как раз для того, чтобы реализовать всеобщее. Если он останется сокрытым и предастся всем мукам раскаяния, он станет демоном и, как таковой, окажется уничтоженным. Если же он останется сокрытым, но не будет лелеять замысловатых надежд на то, что сумеет в борьбе освободить Агнету ценой того, что сам он перестрадает все муки раскаяния, тогда он конечно же обретет мир, но будет потерян для света. Если же он станет открытым, позволит себе спастись благодаря Агнете, тогда он просто самый великий человек, какого я только могу себе представить; ибо только эстетика легкомысленно верит, что восхваляет силу любви благодаря тому, что она делает погибшего человека любимым невинной девушкой, вследствие чего он спасается; на это способна только эстетика, которая не видит предметы ясно и полагает, будто девушка является героиней, между тем герой — это морское чудище. Морское чудище не может принадлежать Агнете до того, как, сделав бесконечное движение раскаяния, оно не сделает еще одно движение — движение силой абсурда. Собственными силами оно может сделать только движение раскаяния, но на это нужны абсолютно все его силы, а потому оно никак не может снова собственными силами воротиться назад и постигнуть действительность. Если же у человека недостает страсти, чтобы совершить то или другое движение, если человек живет кое-как, немного раскаивается и думает, что все остальное устроится само собой, значит, он раз и навсегда отказался от того, чтобы жить в идее, а значит, ему и чрезвычайно легко теперь достичь высшего и помочь другим в этом, иначе говоря, ввести себя и других в заблуждение, представив дело так, будто в мире духа все происходит, как в той карточной игре, где все надувают друг друга. Так что можно развлекаться, размышляя, как это все-таки удивительно, что в такое время, когда каждый может достигнуть высшего, столь распространилось сомнение в бессмертии души; ибо тот, кто всерьез сделал хотя бы движение бесконечности, едва ли может считаться усомнившимся. Заключения страсти — единственно надежные, то есть единственно убеждающие. К счастью, наличное существование в этом случае оказывается более доброжелательным, более верным, чем полагают мудрецы, ибо оно не исключает ни одного человека, даже самого незначительного, оно не обманывает никого, ибо в мире духа одурачен бывает только тот, кто сам считает себя дураком. По всеобщему мнению, и насколько я могу позволить себе судить, это также и мое мнение, уход в монастырь — отнюдь не самое высокое; однако отсюда никоим образом не следует, что, по моему мнению, в наше время, когда никто не уходит в монастырь, что каждый из нас более велик, чем те глубокие и серьезные души, что находили покой в монастыре. Сколькие в наше время имеют достаточно страсти, чтобы подумать об этом и затем честно вынести приговор себе самому. Только идея о том, чтобы так брать время на свою совесть, чтобы дать совести время в своей бессонной неустанности испытать каждую одинокую мысль, так что, если человек не делает этого движения каждое мгновение силой всего, что только наиболее свято и благородно в нем, он постоянно обнаруживает в себе темные влечения, которые, впрочем, таятся в каждом,* — влечения, которые выманивают наружу если не что-то другое, то по крайней мере страх, между тем человек, когда он живет в сообществе, с другими, так легко забывает, так легко выпутывается из сложной ситуации и такими многочисленными способами удерживается на ногах и ищет возможности начать сначала, — одна только эта идея, постигаемая с надлежащим уважением, я думаю, сама по себе могла бы направить многих единичных индивидов в наше время — индивидов, которые думают, что уже достигли высшего. Однако об этом люди мало заботятся в наше время, которое считает, что уже достигло высшего, тогда как ни одно время еще не попадало настолько с сферу действия комического. И непонятно, почему еще не случилось так, что само это время посредством generatio aequivoca** еще не породило собственного героя, демона, который беспощадно ставит весь этот ужасный спектакль, делающий наше время предметом насмешек и вместе с тем заставляющий его забывать, что оно смеется над самим собой. И чего еще заслуживает наше существование, как не того, чтобы над ним посмеяться, если человек сплошь и рядом уже к двадцатому году жизни достигает самого высшего. И однако же, какое более высокое движение было изобретено нашим временем с того часа, когда люди перестали уходить в монастырь? Разве это не жалкая жизненная мудрость, хитрость и трусость сидит тут во главе стола, лживо внушая людям, будто они уже достигли высшего, и лукаво удерживая их от того, чтобы они попытались сделать хотя бы самое незначительное? Тот, кто совершил движение, уйдя в монастырь, имеет перед собой лишь одно движение, которое нужно сделать, — движение абсурда. Но сколь многие понимают в наше время, что такое абсурд; сколь многие живут в наше время так, будто они ото всего отказались или все получили, столь многие по крайней мере достаточно честны, чтобы знать, на что они способны и на что не способны? И разве не правда, что, если такие еще существуют, их можно найти скорее среди менее образованных, а частью — среди женщин? Подобно тому как нечто демоническое всегда само проявляет себя, вовсе себя не понимая, наше время в каком-то ясновидении само проявляет свои пороки; ибо оно все снова и снова требует комического. Если это действительно то, что нужно этому времени, может быть, этому времени понадобится и новая пьеса, в которой смеются над тем, что некто умирает от любви: и разве это