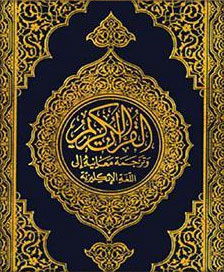в связи с этим и рассказы «Китаб аль-агани» о певицах, пользовавшихся большой признательностью слушателей, даже если они были невольницами или вольноотпущенницами и на них возводилась клевета и преследование именитых ретроградов.
Вот небольшой рассказ о певице Аззе аль-Майла, вольноотпущеннице. Однажды ее решили навестить Абдаллах ибн Джафар, племянник халифа Али, и Ибн Абу Атик, знатный курейшит, любитель пения. Придя к Аззе, они увидели, что перед ее дверью стоял посланец эмира, грозно предупреждавший певицу: «Брось пение, так как жители Медины шумят из-за тебя. Они сказали, что ты околдовала мужчин и женщин». Тогда Ибн Джафар сказал ему: «Вернись к своему господину и передай ему следующие мои слова: «Заклинаю тебя, чтобы ты прокричал в Медине, спрашивая, какой мужчина стал порочным или какая женщина была соблазнена из-за Аззы, и требуя, чтобы он открылся в этом, чтобы мы знали и чтобы он показал нам и тебе свои обстоятельства». И посланец прокричал об этом, но никто не обнаружился. А Ибн Джафар вошел к Аззе вместе с Ибн Абу Атиком и сказал ей: «Да не устрашит тебя то, что ты слышала, и давай спой нам!»[112 — Там же, с. 198.]
Так непросто прокладывало себе дорогу песенное искусство в Халифате, в котором, как показывает современный анализ, «слились четыре традиции… древнее (арабское. — Л.К.) пение, характерное для кочевого народа… культурная песня древних народов Йемена… персидская и греческая песенные традиции…»[113 — Там же, с. 201–202.]. Этот сложный процесс приоткрывает немаловажные стороны рождения и развития свободолюбивой мысли в арабском Халифате в то столетие, когда шла работа по собиранию и редактированию Корана. Процессы, происходившие в общественной мысли стран Ближнего и Среднего Востока, получили отражение и в позднейшем устном народном творчестве, и в произведениях выдающихся вольнодумцев Востока, а также в названном выше западноевропейском трактате «О трех обманщиках».
Изображение «основателей» иудаизма, христианства и ислама как обманщиков, а их «священных книг» — Библии (Пятикнижия-Торы), евангелий и Корана — как лжи, по-видимому, к концу Х и особенно в XI–XII веках становится широко известным на Ближнем и Среднем Востоке. В Иране в это время защитники мусульманской ортодоксии приписывают такие представления сектантам-карматам Бахрейна с целью обличения и преследования сторонников этого широкого, в основе своей антифеодального движения.
В «Сиасет-намэ» — книге о правлении, приписываемой везиру Низам аль-мульку, рассказывается, что предводители карматов, оказавшись в Ираке, в Лахсе, «бросили в поле и осквернили все имевшиеся списки Торы, Евангелия и Корана. Бу-Тахир (предводитель карматов Абу Тахир Сулейман. — Л.К.) говорил: «Три лица принесли порчу людям: пастух, лекарь и погонщик верблюдов»[114 — Сиасет-намэ. Книга о правлении вазира XI столетия Низам аль-мулька. М.-Л., 1949, с. 222. Ср.: Sadek V. Ateisticky proud «De tribus impostoribus» a arabska filosofie. — Novy Orient (Praha), 1962, э 9, с. 198–199; Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроэс). М., 1973, с. 154–167.]. Здесь, как и в позднейшем западноевропейском трактате «О трех обманщиках», под обманщиками подразумевались Моисей («пастух»), Иисус («лекарь») и Мухаммед («погонщик верблюдов»). Естественно, что в произведении, созданном в средневековом Иране, особое значение было придано посланнику Аллаха.
Развившееся в борьбе против свободомыслия, а также против мутазилитов и иных «ересей» схоластическое мусульманское богословие калам (приверженцы его ставили целью словесное обсуждение и логическое подкрепление положений ислама) жестоко расправлялось с каждым, кто был не согласен с официальной догматикой, в частности, высказывался против догмата о несотворенности Корана. По толкованию Абу Ханифы (ум. в 767 г.) — главы наиболее распространенного религиозно-юридического толка (мазхаб) суннитского ислама, Коран «пред творцом не есть сотворенное»[115 — Так якобы ответил Абу Ханифа на вопросы, заданные ему христианином в присутствии халифа Харун ар-Рашида. Эти «ответы» в целях прославления Абу Ханифы и халифа до Октябрьской революции не раз издавались ив нашей стране. См.: Фауз ан-наджат («Спасительный путь»). Казань, 1840, с. 47; есть также казанское издание 1888 г.]. Согласно учению ханифитов, «тот, кто говорит, что Коран сотворен, — кафир», то есть неверный. А получить название кафира там, где ислам являлся государственной религией, было равносильно объявлению вне закона.
В Коране говорится, будто «нет зерна во мраке земли, нет былинки, ни свежей, ни сухой, которые не были бы означены» в нем (6:59). На его же страницах читаем, что Коран ниспослан в «объяснение всех вещей, в руководство, милость, благовестие покорным», мусульманам (16:91); в нем «не выдуманный рассказ, а подтверждение открытого до него, истолкование всем вещам…» (12: 111). На этом основании в исламе было развито положение, что вообще вся мудрость и совершенство — в Коране, а поэтому якобы никакие произведения, кроме него, не могут быть ценимы. Эта мысль, с помощью которой богословие пыталось обесценить мысли и дела человеческие, одержать верх над наукой и прогрессом, обобщена, например, Бади аз-Заманом аль-Хамадани (ум. в 1007/1008 г.) в следующем поучении:
«Начни изучение Корана; затем перейди к тафсиру: бог будет при этом тебе помогать. Не позволяй себя отвлекать от того, что я тебе здесь предписываю, этими книгами-мучениями, потому что это было бы пустым расточительством времени, так как не страшна никакая мука, которая не указана в Коране».
Это положение отстаивается и в работах мусульманских богословов реформистского направления. «Коран, если бы он был даже и сомнительным свидетелем, — писал один из них, — ни один мусульманин… не имеет права обвинять в ошибках»[116 — Abdelkader Hadj Hamou. L’lslam est-il immuable? — Mercure de Fiance, 1930. t. CCXIX, N 765, p. 606.]. В связи с этим нельзя не признать справедливым возражение австрийского исследователя X. Готшалка, сделанное им по поводу работы о средневековом исламе, изданной в Чикаго в 1946 и 1947 годах. X. Готшалк пишет, что в «рамках ислама критика Корана невозможна»[117 — Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes. Bd. 51 Heft 4. Wien, 1952 S. 324.]. Когда в 1926 году видный египетский ученый и писатель Таха Хусейн (1889–1973) выступил с книгой о древнеарабской поэзии («Фи-ш-шир аль-джахили»), из которой следовало, что он смотрит на Коран не как на «ниспосланное с неба откровение», а как на сочинение араба Мухаммеда и, считаясь с данными науки, высказывает сомнение в историческом существовании Ибрахима (Авраама) и Исмаила, то на него тотчас ополчились защитники мусульманской традиции, всячески понося его труды в печати[118 — Нападки на Таха Хусейна рассмотрены в работе И.Ю. Крачковского «Таха Хусейн о доисламской поэзии арабов и его критики». — См.: Избранные сочинения. М.-Л., 1956, т. 3, с. 189–222.]. Книга Таха Хусейна, написанная с позиции сравнительно робкой рационалистической критики, изображалась как одна из «опор неверия», предназначенная «для сокрушения религии».
Прошло немало лет, прежде чем лучшее, что содержит обширное научное и литературное наследство Таха Хусейна, стало получать заслуженное широкое признание. Еще в 1914 году он защитил диссертацию о любимом поэте — Абу-ль-Аля аль-Маарри, и «это была первая докторская диссертация во всем арабском мире»[119 — Лука А. Таха Хусейн и европейская культура. — Культуры — диалог народов мира. Культура народов Востока. — Unesco, 1985, э 3, с. 27.]. Незадолго до кончины Таха Хусейн в октябре 1973 года был удостоен премии Организации Объединенных Наций «За защиту прав человека». Как пишет его современный египетский биограф, «наблюдая в течение всей жизни великий спор XX в. между современностью и традицией, Т. Хусейн способствовал развенчанию мифа о извечном конфликте культур Востока и Запада, убедившись на собственном опыте в том, что они являются составными элементами всей культуры человечества»[120 — Там же, с. 37.].
Конечно, под влиянием изменений в общественной жизни в наше время выдвигаются новые истолкования религиозных догматов и обрядов. При этом обнаруживается как сила секуляризационных процессов, так и противостоящих им стремлений дальнейшего использования ислама в политической жизни. Естественно, что эта картина приобретает немало оттенков, каждый раз завися от конкретных исторических условий страны, государства, для которого она стала характерной.
Изучение, издания и переводы Корана
Итак, Коран по представлению мусульман — книга предвечная, боговдохновенная, «слово Аллаха». Об этом можно прочитать на страницах самого Корана, в котором данная особенность связывает его с древней традицией «безавторской» литературы, восходящей к таким произведениям, как Библия и Авеста.
При составлении и редактировании Корана сохранение этой традиции, очевидно, произошло под влиянием необходимости поддержания высшей категории авторитета Аллаха, культ которого вышел за пределы древнего пантеона арабов и занял место первого и единственного бога, как провозглашено в шахада — «символе веры» ислама: «Нет божества, кроме Аллаха» — «Ля илях илла ллах».
Эта особенность неоднократно разъяснялась в работах исламоведов, писавших о Коране, а также в комментариях и статьях его переводчиков, особенно тех, кто подолгу жил в странах распространения ислама. Так, арабист и иранист, автор арабско-французского словаря, издатель, исследователь и переводчик персидских классиков Манучихри и Саади, драгоман[121 — Драгоман (франц., от арабск, тарджуман — переводчик) переводчик при дипломатических представительствах и консульствах, главным образом в странах Востока.] при французском посольстве в Иране Альбин де Биберштейн-Казимирский (1808–1887) во вступительной статье к переводу Корана, сделанному им с арабского языка на французский, писал: «…Коран не представляет нам почти никаких указаний на жизнь и особу арабского пророка. Это отстранение вообще видно во всем Коране; это слово божие, сказанное Магомету и переданное его устами народу арабскому. Приводя текст Корана, магометанин никогда не скажет: «Магомет говорит», но «бог, всевышний говорит»; поэтому нельзя и ждать, чтоб бог изъяснял согражданам Магомета подробности о его семье, происхождении и приключениях в его жизни»[122 — Коран Магомета. Переведенный с арабского на франц. Казимирским с примеч. и жизнеописанием Магомета. М., 1864, с. III.].
Однако признание этого факта не помешало Казимирскому свой перевод назвать в нарушение догмата несотворенности Корана так, будто это произведение авторское, принадлежащее одному лицу: «Mahomet. Le Koran…» Соответственно озаглавлены и его русские переводы К. Николаева, которые выдержали в России пять изданий — 1864, 1865, 1876, 1880 и 1901 годов: «Коран Магомета. Переведенный с арабского на французский переводчиком французского посольства в Персии Казимирским, с примечаниями и жизнеописанием Магомета. С французского перевел К. Николаев»[123 — Дополнен и несколько изменен титул лишь в издании 1901 г., в котором читаем: «Новый перевод, сделанный с арабского текста М. Казимирским, переводчиком при французском посольстве в Персии. Новое издание, пересмотренное, исправленное и дополненное новыми примечаниями. Перевод с французского А. Николаева». На поверку это издание в основном лишь слегка отредактировано, но часто далеко не лучшим образом. Это видно уже из титульного листа, где Альбин Казимирский написан с инициалом «М.», а К. Николаев превратился в А. Николаева. Впрочем, путаница с инициалом «М.» произошла и в новейшем французском переиздании перевода А. Казимирского, озаглавленном более строго: «Le Coran. Traduction et notes par М. (!) Kazimirski…» (P., 1980). В рецензии