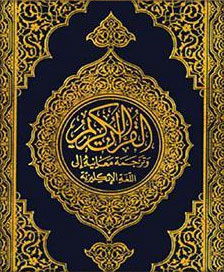на это издание, в котором принял участие востоковед М. Родинсон, немецкий арабист К. Рудольф привел биографические данные А. Биберштейна-Казимирского, родившегося близ Люблина и, еще будучи школьником, эмигрировавшего из Польши. Выясняется также, что путаница с его инициалом имела место и в других зарубежных изданиях, в том числе вышедших до русского 1901 г.: по-видимому, не зная имени, издатели ставили нейтральное «М.», которое на титуле французской книги можно прочитать и как «Monsieur» — сударь, господин. (OLZ, Berlin, 80 (1985), 1, S. 48–49).].
Перевод Казимирского в этом смысле не уникален. Вот заголовки книг трех его предшественников на том же поприще. Прежде всего, перевод на английский язык арабиста Джорджа Сэйла (1680–1736): «The Koran commonly called the Alcoran of Mohammed: translated into English immediately from the original Arabic… by G. Sale, London, 1734» («Коран, обычно называемый Алкоран Мохаммедов: переведен на английский непосредственно с арабского оригинала… Дж. Сэйлом. Лондон, 1734»). В русском переводе, однако, оговорка «обычно называемый» снята и книга названа утвердительно: «Ал Коран Магомедов, переведенный с арабского языка на английский… Георгием Сейлем. С английского на российский перевел Алексей Колмаков, ч. I–II. Спб., 1792».
А вот заглавие немецкого перевода Фр. Бойзена: «Der Koran oder das Gesetz fur die Muselmanner durch Muhammed, den Sohn Abdallah… unmittelbar aus dem Arabischen ubersetzt… v. Fr. Eb. Boysen. Halle, 1773» («Коран или Закон, данный мусульманам Мухаммедом, сыном Абдаллаха… непосредственно переведенный с арабского… Фр. Е. Бойзеном. Галле, 1775»).
А.С. Пушкин, создавая свои незабываемые «Подражания Корану», пользовался переводом, называвшимся «Книга Аль-Коран аравлянина Магомета, который в шестом (!) столетии выдал оную за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из пророков божьих». В книге две части, в каждой из которых сказано, что она «перевод с аравского на французский язык Андрея дю-Рюэра-де-ла-Гард-Малезера». Сообщено также, что она «печатана в Амстердаме и Лейпциге в 1770 году, по российски же переложена, Московского наместничества, Клинской округи, в сельце Михалеве 1790. В Санктпетербурге, в типографии Горного Училища 1790 года». Перевел ее с французского видный русский драматург и переводчик, член Российской академии М.И. Веревкин (1732–1796).
Следует отметить, что Пушкин не поддался влиянию ни заголовка перевода А. Дю Рие (Andre Du Ryer), ни приложенной к нему статьи «Житие лжепророка Магомета вкратце», написанной библиотекарем Сорбонны аббатом Ладвокатом, и заметил важнейшую особенность Корана как книги, где «в подлиннике Алла везде говорит от своего имени, а о Магомете упоминается только во втором или третьем лице»[124 — Пушкин А.С. Собрание сочинений. М., 1974, т. 1, с. 252.].
Анализ источников подтверждает, что традиция истолкования Корана как авторского произведения последнего мусульманского пророка утверждалась прежде всего не на Востоке, а в Западной Европе, едва ли не ранее всего в католической среде, в миссионерских обличительных целях. Так повелось с периода распада Кордовского халифата и успехов реконкисты — отвоевания народами Пиренейского полуострова земель, захваченных арабами и берберами, позднее ставшими известными под именем мавров, а также после образования, в результате первого Крестового похода, Иерусалимского королевства (1099–1291). Позднее, с развитием в Европе книгопечатания, в XV и особенно в XVI и XVII веках эта традиция утвердилась.
Конечно, и в мусульманской среде, как мы могли заметить в приведенном выше отрывке из «Сиасет-намэ» Низам аль-мулька, близкие этому мысли уже в XI веке смущали не одного мусульманина. Немало вольнодумных замечаний в отношении тех или иных сур и аятов Корана содержится и у его мусульманских истолкователей. Именно эти исламские авторитеты во многом влияли на переводчиков и европейских комментаторов Корана в решении вопроса о происхождении тех или иных его аятов и сур. Некоторые из таких мест нами были перечислены при ознакомлении с примечаниями академика Крачковского (см. выше), где, например, в отношении одного аята замечено, что он — «добавление Усмана», а другого, что это — «цитата Абу Бакра после смерти Мухаммеда». В последнем случае речь идет о 138-м аяте 3-й суры Корана, где в третьем лице сказано о возможной смерти Мухаммеда. Еще знаменитый историк и комментатор Корана ат-Табари (838–923) написал об этом аяте как неизвестном при жизни «посланника Аллаха»; его-де сообщил мусульманам ставший первым халифом Абу Бекр. Это место из ат-Табари переводилось и на русский язык[125 — См.: Крымский А. История мусульманства. Самостоятельные очерки, обработки и дополненные переводы из Дози и Гольдциэра. 2-е изд. Ч. 2. — Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским институтом восточных языков. Вып. XVIII. М., 1904, с. XI.].
У комментаторов Корана встречаются и другие любопытные замечания. Так, в известном, неоднократно издававшемся тафсире кади[126 — Кади (кази, казый) — шариатский судья.] XIII века Абдаллаха Байдави «Анвар ат-танзиль» («Светочи наития»)[127 — Beidawii commentarius in Coranum. Lipsiae, 1846–1848, vol. 1–2.] в толковании 93-го аята 6-й суры Корана есть такая запись: «Абдулла, сын Сагада, сына Абу Сархова, был писцом у посланника Аллаха. Когда были открыты (Мухаммеду. — Л.К.) аяты: мы сотворили человека из самого чистого вещества, из глины (23:12 [128 — В изданном переводе Корана Саблукова уточнено: «Мы сотворили человека из сущности глины». То же, по сути, в переводе Крачковского: «Мы уже создали человека из эссенции глины».]. — Л.К.) и далее сказаны были слова: и потом произвели его на свет другим творением (23:14 [129 — В изданном переводе Саблукова: «Потом из этого производим другое творение». У Крачковского: «Потом мы вырастили его в другом творении».]. — Л.К.), Абдулла, удивляясь этим словам о создании человека, сказал: благословен бог наилучший из творцов (23:14 [130 — В изданном переводе Саблукова: «Благословен бог, искуснейший из творцов!» У Крачковского: «…благословен же Аллах, лучший из творцов».]. — Л.К.), тогда Мухаммед сказал: напиши и эти слова (твои), потому что они слова откровения. Тогда Абдулла пришел в недоумение и говорил: если Мухаммед истинный пророк, то и мне дается откровение так же, как дается откровение ему; а если он ложный пророк, то и я могу говорить так же, как говорит он»[131 — Цитирую по арабскому тексту и русскому переводу тафсира Байдави, написанному на отдельном листке, вложенном в рукопись неопубликованного 2-го Приложения к переводу Корана Г.С. Саблукова. Цитаты из Корана даны без кавычек, но в рукописи подчеркнуты. Мои исправления минимальны: вместо «пророка божия» в соответствии с арабским текстом пишу: «посланника Аллаха». Байдави у Саблукова транскрибируется в соответствии с принятым у татар и других тюркоязычных народов произношением — Бейзавий.].
Нетрудно понять, что за этой живой зарисовкой — слегка завуалированный суровый повседневный труд писцов, требовавший усидчивости и постоянного внимания, напряжения внутренних сил, но не убивавший в лучших из них вольномыслия, желания вникнуть в то, что им диктовали, стремления приподнять завесу над тем, как рождается «несотворенное», «боговдохновенное». Факт этот, как видим, не стал скрывать от своих читателей и столь авторитетный комментатор Корана, как Абдаллах Байдави.
Нелишне также напомнить данные современной науки — психологии и экспериментальной фольклористики, установивших, что человеческая память не гарантирует сколько-нибудь длительного сохранения незафиксированных текстов. Даже у профессиональных сказителей, в течение долгих лет исполняющих эпические произведения, обычно сохраняются лишь фабульная основа воспринятого и передаваемого ими, а также связанный с этой основой эмоциональный фон. Отсюда смутность и ограниченность представлений о времени и месте происходящего, композиционные, хронологические и т. п. смещения в текстах, дошедших через устные пересказы, или представляющие их позднейшую запись, доработку. Само собой разумеется, что возведение таких текстов к определенному реальному лицу часто носит весьма условный характер, а тем более, если это лицо, этот источник иллюзорный — «высшая неземная сила».
Однако когда такая запись, даже прошедшая несколько редакций, канонизирована и более тысячелетия как принята миллионами верующих за произведение «безавторское», боговдохновенное, несотворенный оригинал которого находится на седьмом небе, у вседержителя, то странно, не назвав определенной причины и не приведя соответствующей аргументации, выдавать ее за сочинение определенного лица, хотя бы оно одновременно считалось посланником (ар-расуль) этой высшей инстанции. Между тем именно так поступили с Кораном при его переводе на западноевропейские языки.
Вспомним также, как трудно давалось составление Корана, подготовка первого, а затем и второго его списка, как теперь пишут, «редакций», рассчитанных на то, чтобы удовлетворить ими всех мусульман, приверженцев разных течений, имевшихся в раннем Халифате. Несмотря на многие усилия, это достигнуто не было.
В чем же заключалась сложность?
По-видимому, прежде всего в необычности задачи, поставленной халифом: создать книгу, которая бы имитировала «слово Аллаха», хранимое на седьмом небе, а отнюдь не жизнеописание реального человека, проповедника, пророка, занятого вместе со своими соратниками и единомышленниками разработкой и распространением нового вероучения и даже войной с инакомыслящими. То, что материал, над которым работали люди, трудившиеся над составлением этого сочинения, как мы знаем, вскоре был уничтожен, сожжен, мешает восстановить картину этой работы с достаточной ясностью, и все же можно предположить, что получаемые ими записи во многом не подходили составителям «боговдохновенной» книги из-за своей заземленности.
Жители Мекки, Медины и других мест Аравии первых десятилетий VII века были людьми, в большинстве своем отдававшими большую часть своего времени тяжкому труду кочевника, земледельца, садовода, скотовода, пастуха, каравановожатого, ремесленника, торговца, а отнюдь не отвлеченному созерцанию, отшельничеству или мистицизму. Еще К. Маркс и Ф. Энгельс предостерегали от увлечения экзотикой, от изображения людей Востока как неких безудержных фанатиков. Критикуя немецкого идеолога буржуазного индивидуализма и анархизма Макса Штирнера (1806–1856), основоположники марксизма писали в «Немецкой идеологии»: «Упорной борьбой монгольской расы люди построили небо» — так полагает «Штирнер»… позабыв, что действительные монголы нанимаются гораздо больше баранами, чем небесами…»[132 — Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 155. В оригинале игра слов: «Hammel» — «баран», «Himmel» — «небо».]
Естественно предположить, что большинство арабов, слушавших «посланника Аллаха» или его соратников и даже что-либо записывавших из их речей, проповедей, поучений, наставлений, приговоров, обращали внимание, как правило, не на изрекавшиеся ими отвлеченные постулаты, не на теологию и космогонию, а на беспокоившую их конкретность, сердца их откликались прежде всего на злободневность, на то, о чем их спрашивали дома и в общине, знание чего могло помочь им в жизни. Именно это запоминалось лучше всего. Но как раз эта историческая конкретность, заземленность, казавшаяся наиболее убедительной тем, кто слушал пророка, не помогала, а мешала составителям и редакторам «божественного откровения».
И очевидно, что едва ли не главным при выполнении задачи, стоявшей перед составителями Корана, было нарушить заземленность поступавших к ним и ими делавшихся записей, искусственно разорвав и перетасовав их по разным сурам. Не случайно то и дело нарушается повествовательность содержащихся в Коране сказаний, хронологическая и смысловая последовательность не только сур, но и аятов. По той же причине в этой книге много