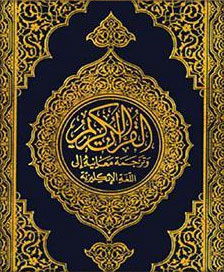не может, потому что пироги ведь пекла сама Меседу…
— Такие времена пошли, что родному брату верить стало трудно, идешь с ним рядом и все оглядывайся. Между лопатками так знобит, будто брат вот-вот всадит тебе в спину кинжал…
— Да, времена беспокойные, что и говорить. Но он умер своей смертью. Просто сердце сдало…
— Осиротели горы! Такого человека потерять!..
— Да, пепел не вспыхнет, ушедшего не вернешь, — вздыхали те, кому, судя по летам, предстояло в недалеком будущем последовать за покойным.
Месяц, похожий на ломтик чеченской дыни, поднялся над Тарки-Тау. Стало светлее, звезды высыпали гурьбой, тучи рассеялись, потянулись к небосклонам. Ночь выдалась теплая… Сын покойного Али-Шейха Мустафа суетился, провожая тех, кто уезжал, и встречая тех, кто поздно узнал о беде, но хоть и на ночь глядя, а все же примчался, по обычаю, выразить сочувствие.
Вот в сопровождении нескольких своих спутников поднялся седобородый старец в бараньей шубе и в папахе из золотистого каракуля. Это Абу-Супьян, он обратился к Мустафе.
— У меня к тебе просьба, — сказал он. — Но прежде скажи мне, кто в роду моего друга Али-Шейха достоин возложить на себя бремя старшего?
— Я, уважаемый Абу-Супьян. Больше некому. Мне отныне платить на земле долги отца. Я слушаю тебя, почтенный… — склонив в знак уважения бритую голову, смиренно ответил Мустафа.
— Не знаю, правильно ли ты меня поймешь, сын мой…
— Да пусть будет поражен проклятой болезнью тот, кто не постарается понять старшего!
— Гордо говоришь, сын мой. Да и мог ли сын такого отца быть иным. Стоящий человек и в юности пожилой, а бездельник и в сорок лет шалопай.
— Я буду счастлив, если окажусь полезным.
— Не мне об этом говорить, всем нам был дорог покойный, да будет жить его имя среди тех великих имен, что хранит в памяти земля наша… Его мудрость и то, как он знал человеческую душу, достойны любой высокой похвалы… Что я в сравнении с ним? Заштатный служитель веры…
— Ваша звезда, почтенный Абу-Супьян, сверкает рядом со звездой моего отца…
— Благодарю тебя. Не знаю, как и приступить к моей просьбе.
— Не затрудняйтесь, уважаемый Абу-Супьян, я весь внимание.
— У незабвенного отца твоего был древний рукописный коран с медной застежкой?
— Почему был? Он и сейчас хранится в нашем доме.
— Я всю свою жизнь стал бы молиться за всех вас, сын мой, и за отца твоего, если бы ты удостоил меня чести стать владельцем этого корана… Мне хочется лишь одного: чтоб с этой книгой я унаследовал и знания и авторитет твоего отца… А тебе известно, сын мой, как порой необходима опора и вера людей, чтобы творить для них добро…
— Так это же реликвия нашего рода, — вмешался кто-то из дальних родственников, но Мустафа тут же перебил его — тот был моложе.
— Как ты смеешь вмешиваться в разговор, — сказал он, — и перебивать старших? Сходи-ка лучше да принеси эту книгу. Если есть на земле человек, святостью своей заслуживший унаследовать в память о моем отце этот коран, так это только Абу-Супьян.
— Благодарю тебя, сын мой… Я передам моим сыновьям — у меня их четверо — рассказ о твоем достоинстве и мужестве, — надеюсь, вы станете братьями.
— Я буду рад, почтенный Абу-Супьян. Вот она, эта книга. Храните ее.
— Пуще глаза своего буду беречь!
— В добрый час, Абу-Супьян!
— Спасибо!
Абу-Супьян попрощался со всеми, — не послушался тех, кто советовал ему остаться переночевать, а в путь пуститься с рассветом, — погладил бороду, пожал всем руки, раскланялся и, прижимая к сердцу под шубой драгоценный дар, потянул за уздечку свою старенькую лошадь и медленно двинул из аула в южную сторону. Велика была радость в душе почтенного старика. Пусть теперь ему завидуют все, возомнившие себя самыми истинными служителями веры, пустые брехуны. А их немало в его родном ауле Шам-Шахаре, прилипших к мечети, как смола к стволу дерева.
Странные гости
Всех гостей, конечно же, было не уместить на ночевку в доме покойного Али-Шейха. А потому, по стародавнему кумыкскому обычаю, некоторых, уходя, забирали с собой соседи, и не только соседи, все сельчане… Люди постепенно расходились, когда вдруг, нарушив тишину ночи, заиграл на земле конский топот и, поравнявшись с воротами, быстрый всадник осадил скакуна, легко спешился, отвернул край башлыка, обнаружив отметину на лбу, кривой, как клюв птицы, нос, черные усы над тонкими губами и квадратный подбородок со щетиной.
— Ассаламу-алейкуа, жамиат[6 — Жамиат — общество.] Агач-аула! — сказал он громко. Это был не кто иной, как Саид Хелли-Пенжи, но его здесь не знали. — Почему не отвечаете на приветствие? — добавил приезжий.
— Да будет отвечено, если уж ты просишь, но сын мусульманина не вправе нарушать обычай отцов…
— Все рушится на этом свете, почтенные, о каком обычае разговор?
— Никто еще не въезжал в аул верхом. Уважающий людей должен спешиться еще за аулом. Вот о каком обычае речь…
— Пустое. Когда кусает змея, об укусе комара не вспоминают, почтенные. Но, простите, у вас, кажется, беда? Могу ли я узнать, кому воздаются почести?
— Одному из достойнейших среди нас, слава ушедшему Али-Шейху. Воздень руки и читай молитву.
— Что? О ком вы? Неужели это правда? — Если бы в этот миг мячом покатилась перед ним шаровая молния, и тогда бы Саид Хелли-Пенжи не испытал такого удивления и досады.
— Да, правда. От нас ушел Али-Шейх.
— Молись, джигит. И знай: храбрость — это умение править не только конем, но и собой.
Саид Хелли-Пенжи прочитал молитву, провел ладонями по лицу, чему последовали остальные, затем, чтобы не раздражать народ, пожал всем по очереди руки, присел на бревно и, глубоко вздохнув, молвил:
— Всегда со мной так, почтенные! Всю жизнь не везет… Или прихожу слишком рано, или уже поздно… Нет чтобы явиться вовремя…
— Время — лисица, будь, говорят, борзой.
— Все в руках аллаха. Его воля править жизнью каждого.
— Хвала аллаху.
— Али-Шейх ждал меня. Он должен был меня встретить. Вот я явился, а его уже нет. Жаль, очень жаль…
— У тебя что, дело к отцу? — спросил Мустафа, подсаживаясь поближе к приезжему.
— Да, было дело, и очень важное.
— Говори какое.
— Что толку. Вряд ли мне теперь кто поможет.
— Я старший сын Али-Шейха, мне отныне платить на земле все долги отца.
— Долга за ним никакого нет. Я привез ему газырь, которого не хватало на его бешмете…
— Ты Хасан сын Ибадага из Амузги? — встрепенулся Мустафа.
— Нет, Хасан убит в Большом ореховом лесу.
— Что?..
— Кто сказал, что он убит?..
— Ты о Хасане из Амузги?..
— Сам видел его мертвым?
Все всполошились и заговорили о Хасане из Амузги: те, кто знал его, и те, кто, может, только краем уха слыхал о нем.
У Саида Хелли-Пенжи сердце захолонуло. Если б не серп месяца, а солнце было на небе, не трудно бы заметить, как побледнело его лицо.
— Ты лжешь! Его уже не раз убивали, не раз, это правда. Но убить не удалось никому, ни губернатору, ни англичанам, ни имаму, ни шамхалу. Не поверим мы в его смерть, пока сами не увидим мертвым!..
— Я ценю вашу веру в него, и мне жаль вас. Вы все, наверное, знали его?
— Знали не все, и даже мало кто знал его, а вот слыхать слыхали о нем многое. Все горцы говорят, что человек он небывалой храбрости. На врагов такого страху нагонял…
— Да, брат мой был таким! Был, почтенные люди… Храбрость, что молния, живет мгновение…
— Так ты его брат?
— Да, двоюродный, — с легкостью солгал он.
— Отец говорил мне, что должен приехать Хасан из Амузги…
— Вот я и явился вместо него.
— Но мужество храбреца и не доят, и не седлают…
— Если селитра и сера будут согласны, они не оставят пули в ружье, — отпарировал Саид Хелли-Пенжи.
— Где газырь? Давай сюда и пошли в дом! — Мустафа перешагнул порог. Ночной гость последовал за ним протягивая газырь.
Мустафа приложил его к газырям отца и сказал:
— Теперь я слушаю тебя.
— В этот газырь заложена бумага. В ней, по-моему, все сказано, — проговорил Саид Хелли-Пенжи, которому ох как не терпелось узнать, что за тайна скрывается в тех словах.
Что делать — аллах не дал ему знаний, и не умеет он по мудреным закорючкам, называемым письменами, читать чужие мысли. Аллах знает, что делает. К его бы способностям да еще и умение читать и писать — несдобровать бы тогда горцам…
Мустафа достал записку и начал читать. На лицо легла тень недоумения и настороженности. Он вновь и вновь перечитал записку. Сомнения не было, речь шла о том самом коране с медной застежкой, что увез Абу-Супьян. В записке черным по белому было написано, что отцу его надлежит передать этот коран в руки гонца с газырем.
— О каком коране здесь речь? — на всякий случай уточнил Мустафа.
— Я ничего не знаю, мне не дано прочесть, что там написано. Если речь идет о коране, значит, есть такой коран.
— У нас в доме был коран с медной застежкой…
— С медной, а не золотой?
— С медной…
— Где же он, если был?
— До захода солнца я передал его в руки уважаемого Абу-Супьяна. Одному из любимых друзей моего отца.
— Это который же Абу-Супьян, не из Шам-Шахара ли?
— Да, он самый.
— Беда, брат мой, беда. Ты не имел права распоряжаться этим кораном! — не на шутку встревожился Саид Хелли-Пенжи.
С этими словами он вскочил в седло. Сейчас ему и вовсе не было дела до укоров почтенных агачаульцев.
— Надеюсь, следы коня Абу-Супьяна я найду на этой стороне? — и Саид показал на юг.
— Да, там…
— Прощайте! Мне надо спешить! — крикнул он и ветром унесся из аула. «Чем горячее огонь, тем дальше приходится засовывать руки в него», — с досадой подумал Саид Хелли-Пенжи.
Недовольно посмотрели ему вслед люди.
— Странный кунак, очень странный. У тебя он не вызвал недоверия, сын Али-Шейха?
— Удивительно, но и мне он показался каким-то странным, — ответил Мустафа. — Уж очень глаза у него бегали и все лицо выражало подозрительную тревогу.
— А что ему понадобилось от тебя? Если это не семейная тайна, может, расскажешь, в чем дело.
— Да нет тут никакой тайны. Ему тоже вдруг понадобился коран с медной застежкой.
— Вах, вах, не тот ли самый, что ты великодушно отдал Абу-Супьяну?
— Другого такого у нас нет и не было.
— Тут что-то не то… Боюсь, с этой книгой связана какая-то тайна.
— Не думаю. Если бы тут была какая-нибудь тайна, отец не скрыл бы ее от меня…
— Не надо гадать, почтенный. Да будет милостив аллах и избавит людей от бед и горя…
— Может, в этом коране тайна святости владельца его?
— Не знаю. Лучше бы я захоронил его вместе с отцом.
— А отец завещал тебе так поступить?
— Нет. Он же ничего не успел сказать.
— Да, тут все что-то странно… Сколько войн я пережил в нашем краю, но так тревожно на душе у меня никогда не было. Поверите ли, почтенные люди, словно бы мне подарили какую-то радость, а я вот ее теряю… Хочу уберечь, но не ведаю как!
— Старость это, почтенный, старость. Мозг твой серым стал, вот тебе