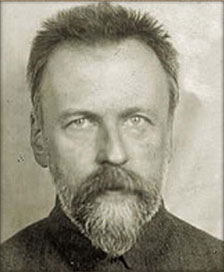морали, в ценности красоты в искусстве и т. п. Таким образом, скептицизм касается наиобщих предпосылок нашего знания и нашей деятельности. Он подвергает сомнению самую возможность философии, если под задачей философии понимать прежде всего стремление привести человеческое знание к стройному единству, свободному от внутренних противоречий и согласующемуся с данными мира опыта. Было бы большим заблуждением сказать, что люди, которые «миры продумали», ища решения этих проблем, не знали мук сомнения, но что их знает любой
51
обыватель, озабоченный узким кругом своих личных интересов. Бесспорно, могут быть случаи, когда скептик не есть сомневающийся, т. е. теоретик скептицизма может не страдать сомнениями. Это мыслимо в трех случаях: 1) При скептицизме дилетантов, которые забавляются философским скептицизмом от нечего делать — это представители бойкой «Kaminphilosophie»*. 2) Есть в истории философии такие эрудиты, которые, изучая противоречивые мнения различных философов, в конце концов увлекаются спортом искания противоречий в человеческих мнениях. Но здесь мы имеем перед собой уже не философа-творца, но комментатора, экзегета, который действительно может быть весьма далек от мук сомнения. (Об этих двух видах сомневающихся см.: «Законы мышления и формы познания», 1906, стр. 202.) 3) Наконец, не надо забывать, что сомнения есть не только эмоциональное состояние, но и познавательное. В основе всякого сомнения лежит вопрос, проблема, и можно не только страдать сомнением, но и применять его как метод. Этим издавна пользуются математики в виде так называемого reductio ad absurdum**. Вот два треугольника, их основания и углы при основании соответственно равны, равны ли треугольники? Усомнимся в том, что они равны. Тогда, налагая один на другой так, чтобы основания совпали и углы совпали сторонами, поставим вопрос о том, совпадут ли вершины. Тут могут быть три возможности: треугольники совпадут, или вершина первого упадет внутри второго, или вне второго; но последние возможности тотчас же отпадают, и мы приходим к заключению, что треугольники равны. Таково методическое сомнение, которое часто применяется философами для твердой установки истины. Таким именно путем Декарт установил свое «Cogito, ergo sum»***. Разумеется, в подобном случае не может быть речи о муках сомнения, ибо здесь мы имеем дело уже с решенною проблемою, и только в способе ее изложения философ намеренно вводит элемент сомнения, чтобы тем победоноснее на глазах читателя его устранить. Но за вычетом упомянутых случаев мы найдем следы глубоких переживаний сомнения не только у философов-скептиков, но и вообще у большинства крупных мыслителей. Раскрытие этих душевных перипетий, однако, чрезвычайно трудно. Дело в том, что скептицизм, возникши однажды в древности, отлился в известное миросозерцание, которое создало вслед за собой непрерывность литературно-философской традиции. Главные принципы скептической философии через Цицерона, через Секста Эмпирика передавались из поколения в поколение. Августин, Монтень, Паскаль, Бэйль, Юм, Ницше образуют линию непрерывного наследования этих начал, и часто бывает трудно определить, что в мировоззрении послепирроновского скептицизма есть подлинно пережитого и что представляет лишь новую вариацию старой темы. Отсюда и в чувствовании философа может быть подмечен налет сопереживаний скорее эстетического, чем взаправдашнего характера. Особенно заметно это, как мы увидим ниже, у Монтеня, для которого скептицизм — «мягкая подушка», molle oreiller. Другое обстоятельство, затрудняющее нашу задачу, это недостоверность и неполнота биографического материала. О древних скептиках, их внутреннем мире мы почти ничего не знаем. В новой философии мы имеем более богатые биографические и автобиографические данные, но и здесь воз-
52
можны ошибки. Казалось бы, автобиография — самый надежный в данном случае источник, но мы увидим на примере блаженного Августина, как нередко спорны показания философа о самом себе, о своих внутренних исканиях, особенно если факты, излагаемые в автобиографии, имели место много лет раньше ее написания.
XVIII. Психические особенности скептика
Какими критериями можно выделить в истории философии скептиков от представителей других школ? Вопрос, казалось бы, праздный, ибо ответ самоочевиден: тот, кто утверждает, что мы не можем с уверенностью установить ни одной истины и что мнения, друг другу противоречащие, равно вероятны, и есть скептик. Но дело-то в том, что история человеческой мысли не дает нам примера абсолютного скептицизма без каких-нибудь смягчающих обстоятельств. Скажут ли, что Пиррон был абсолютным скептиком. — однако и Пиррон признавал некоторые знания, полезные для жизни, за ценные, следовательно, и он не проводил скептицизма до конца. Абсолютный скептицизм предполагал бы полное воздержание от высказываний и от поступков, т. е. смерть. Поэтому мы наблюдаем у знаменитых скептиков наличность известных противовесов теоретическому сомнению: или они допускают вероятное знание, полезное для житейского обихода, хотя и не имеющее никакой научной ценности; или они в религиозной вере находят выход из неразрешимых противоречий научной мысли; или они опираются на традицию, на обычаи предков в своем поведении; или, разочарованные в могуществе разума, они бросаются в объятия мистики, т. е. прислушиваются к голосу «сверхразумных» откровений чувства и здесь находят «тихую пристань» после бурных сомнений в области научных исканий. Так как и сомнение, и вера, и знание находятся в известной дозе у всех философов, то разграничение между скептиком и нескептиком сводится к перевесу скептического элемента над догматическим. Мало того, вера некритическая, слепая, конвульсивная характерна именно для скептиков. Вот почему нам представляются заведомо бесплодными споры о том, был ли Паскаль скептиком или нет, — спор, одно время сильно занимавший французских историков философии. Раз абсолютный скептик есть фикция, то, понятно, легко доказать, что Паскаль не был скептиком, но то же легко проделать и с остальными мыслителями, которым приписывается такое имя. Психология скептика, кроме наличности упомянутых мучительных колебаний, определяется совокупностью психических признаков, из которых важнейшими, по-моему, являются следующие:
I. Стремление к разнообразию в философском познании, тенденция
концентрировать внимание на различном, индивидуальном, текучем, из
менчивом и, наоборот, неспособность концентрировать внимание на
постоянном, устойчивом, универсальном, единообразном.
II. Наклонность к сближению реального и нереального, сна и дейст
вительности, изменения в «чувстве реального» в смысле его ослабления
по отношению к реальному и усиления по отношению к невзаправдаш
нему.
53
III. Ненасытная потребность свести к еще более очевидному то, что для других самоочевидно, то, что Лейбниц назвал superrogativum*.
IV. Конвульсивная приверженность слепой вере, обычаям и традиции.
V. Иногда парадоксы воли в виде почти одновременного влечения и отвращения в отношении к тому же объекту. Эти черты читатель найдет в приводимой ниже характеристике кризисов сомнения у различных философов.
В развитии философских сомнений можно отметить три периода. Первоначально сомнение отсутствует, затем наступает момент его зарождения. Прежняя точка зрения на мир оказывается неудовлетворяющей, сначала сомнение может касаться какого-нибудь частного вопроса, но мало-помалу оно, как малая искра, разгорается в пожар, охватывающий все. Затем наступает перелом в этом кризисе — открывается внезапно путь к преодолению мук сомнения или в виде научного опровержения, или в виде акта веры1:
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко
И верится, и плачется,
И так легко, легко…**
Весьма любопытно, что этот переворот, даже момент озарения, напоминающий процесс религиозного обращения, нередко остается в памяти философа. За таким переломом уже наступает уверенная разработка проблемы познания в новом направлении. Здесь мы имеем дело с тем циклом психофизических процессов, которые Авенариус в своей «Критике чистого опыта», § 805, назвал проблематизацией и депроблематизацией.
Подобный процесс можно наблюдать: 1) В обыденной жизни. Нас начинает мучить сомнение по поводу какого-нибудь интересующего нас обстоятельства, и вдруг догадка озаряет нас, и сомнение сменяется уверенностью. Энгельмейер в книге «Теория творчества» дает следующую иллюстрацию этому явлению. Красавица Эболи (в «Дон-Карлосе» Шиллера) мучится сомнениями, кто владеет сердцем Карлоса, — и вдруг догадка молнией озаряет ее душу: любимый ею Карлос любит именно ее, свою мачеху, но старается подавить в себе безумную страсть. 2) В искусстве. Художник Михайлов никак не может создать в воображении подходящий для своей картины образ гневающегося человека. Вдруг ему попадается один из многочисленных его старых набросков гневающегося, который, как и другие, не удовлетворял его, но теперь стеариновое пятно на брошенном в корзину рисунке внезапно подсказывает ему нужные изменения экспрессии — и долго не вытанцовывавшаяся задача решена (этот пример из «Анны Карениной» также имеется у Эн-гельмейера). 3) В науке. Ученые нередко отмечают в своих воспоминаниях момент, когда долго не удававшаяся задача оказывалась в один
1 Знаменитый физик Роберт Бойль так описывает кризис сомнений, из которого он нашел выход в религиозной вере, которая укрепилась в нем после изучения Библии в еврейском и греческом подлинниках: «Демон воспользовался моей меланхолией, наполнив душу ужасом, и внушил сомнения в основных истинах религии».
54
прекрасный день, благодаря внезапной счастливой интуиции, решенной. (Этой творческой интуиции посвящена в настоящем исследовании IV гл. II т.)
Есть возраст в жизни человека, когда глубокие душевные перевороты особенно часто имеют место. Это период юности, период «бури и натиска», эпоха «опрокидывания Монбланов и Казбеков», по выражению Писарева. В эту эпоху происходит глубокий перелом между старыми и новыми верованиями. Быстрое завершение физического развития, ряд новых неведомых чувств, с одной стороны, старые наивные привычки мысли — с другой, все это создает ту неуравновешенность, которая нередко замечается у подростков и которая так гениально описана у Достоевского в «Неточке Незвановой» и «Подростке». В последнем произведении великий психолог особенно ярко обрисовывает колебания нравственного чувства у подростка. С одной стороны, загрязненное воображение подталкивает его на грязные проделки, с другой — в нем зарождаются порывы героизма и великодушия, вместе с новыми чувствами расширяется круг социальных симпатий, возникают эмоции, направленные на всечеловеческое, на сверхличное. Старбек («Psychology of religion», 1899) объясняет перелом душевной жизни после кризиса сомнений следующим образом: если мы обозначим физиологические процессы, соответствующие новым верованиям, через АВ, соответствующие старым верованиям через ВС, то борьба между противодействующими силами — старым мировоззрением и нарождающимся новым — может быть графически выражена в следующих трех схемах.
Из них ясно, что кризису сомнений, его наиболее острому моменту соответствует тот случай (2-й чертеж), когда борющиеся силы, старое и новое, оказываются приблизительно равными. Джэмс в «Многообразии религиозного опыта» для религиозного обращения дает другое объяснение. Он полагает, что у человека, наряду с его сознательным Я, имеется еще сублиминальная область, т. е. совокупность душевных состояний, лежащих ниже порога сознания. Это «подсознательное Я» может развиваться, расти и при известных условиях вторгнуться в жизнь сознания, овладеть ею и, наконец, стать в ней господствующим началом. По моему мнению, гипотеза Старбека более научна, чем гипотеза Джэм-са. Дело в том, что самонаблюдение показывает нам принадлежность и старых, и новых верований тому же единому сознанию. Гипотеза сублиминальной душевной жизни опирается на допущение абсолютно-бессознательной душевной жизни, а такое предположение самопротиво-речиво, ибо психическое состояние есть только другое слово для состояния сознания, поэтому здесь пришлось бы говорить о бессознательных
55
состояниях сознания, что нелепо. Удивительно, что