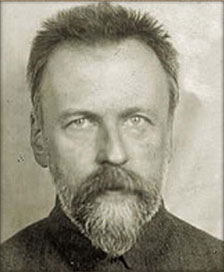психологически, как такое состояние духа, в котором последний столь прочно связан со знанием и удовлетворен им, что ничто не может оторвать его от этого знания. Он предается различным сомнениям, тому, что называется сенсуальным скепсисом, а затем и скепсису интеллектуальному. Останавливается он и на сопоставлении сна и действительности: не есть ли жизнь сон, а смерть — пробуждение от него? Окажется ли наше знание по пробуждении таким же, каково оно теперь, в состоянии сна? Это истинное пробуждение может быть предвосхищено мистическим экстазом и просветлением духа, которое ниспосылает Бог. Это просветление дает духовную опору не только морали и эстетике в жизни, но и основным предпосылкам знания. Де-Во сомневается, чтобы этот документ был точным изображением духовных исканий, скорее это литературный лейтмотив, встречающийся, хотя и не в такой отчетливой форме, у араб-
59
ских мистиков. Это обстоятельство не исключает того факта, что связь скепсиса и мистики здесь очевидна и что мистика была для Эль-Гацали и других нередко средством к освобождению от скепсиса.
Античный скепсис Пиррона был вызван в большей степени практическими, чем теоретическими интересами. Не жажда всезнания, опирающаяся на вполне достоверные начала, играла здесь роль основного мотива, а стремление к невозмутимости духа.
Точно так же и средневековый скепсис Эль-Гацали был тесно связан с морально-религиозными потребностями. Быть может, даже Эль-Гацали лишь эмоционально сопереживает известный литературный лейтмотив. Его поверхностный скепсис, так похожий по внешней форме на doute methodique* Декарта, глубоко отличается от последнего тем, что мистическая настроенность у него была сильна и до кризиса сомнений, которые были лишь преходящим состоянием духа, не повлекшим за собою никакого развития научно-познавательного интереса, но лишь укрепившим мистические и апологетические тенденции его духа. В его полемике против философов сказалось, несмотря на всю связанность мысли теологическими предпосылками, его изумительное диалектическое мастерство.
XX. Монтень. Паскаль. Юм. Ницше. Ренан
Если муки сомнения у Августина бесспорны, какова бы ни была природа пережитого им кризиса, то скептицизм Монтеня представляется нам явлением чисто литературным. Конец XVI в. особенно способствовал распространению скептицизма, благодаря тому пресыщению эрудицией несистематической, беспорядочной, какая была характерна для эпохи накопления знаний без их концентрации. Монтень — типичный продукт этого переходного времени. Сам человек высокообразованный, любивший пестрое многообразие мнений, эстетически смаковавший литературно-философские контроверзии, он проповедует отрицание науки и замену ее благоразумною docta ignorantia**, преданностью политическим и религиозным обычаям страны. Он говорит о трех родах невежества — невежество наивное простолюдина, неполнота знаний ученого и сознательное невежество, docta ignorantia, пресыщенного мнимым знанием, убедившегося в тщете наук и непознаваемости истины. Монтень рассказывает, как однажды во время кораблекрушения все люди на корабле трепетали от ужаса, один гусь с философским спокойствием продолжал есть горох. Монтень, поскольку он о себе рассказывает, весьма подходит под психологический тип скептика, только мук сомнения у него не замечается никаких. Он ярко характеризует в себе тенденцию к разнообразию, непостоянству во мнениях и настроениях1. («Я подобен старой бабе, которая зараз ставит свечку и Георгию Побе-
1 «Мой взгляд на все так беспорядочен, что натощак и после еды я чувствую себя другим. В чудную светлую погоду при хорошем здоровье — я порядочный человек, мозоль на большом пальце ноги делает меня раздраженным, нелюбезным, необщительным» и т. д. («Essais», ch. XII, p. 301).
60
доносцу, и дракону, которого тот хочет заколоть».) Как древние скептики, он сближает сон и действительность1, реальное и кажущееся. Как они, он отрицает самоочевидность аксиом познания. Но для него неустойчивость мнений скорее привлекательна, чем мучительна, он импрессионист познания. Эта легкость и беззаботность Монтеня и заставляет относиться к его заявлениям о себе подозрительно, трудно провести границу между литератором и человеком. Если Монтень действительно переживал кризис сомнений, то лишь в юности. В «Essais» он энергично подчеркивает тот единственный выход из теоретических сомнений, какой он усматривает: традиционная вера в религии и верность существующему политическому строю и обычаям страны. Причем эта вера должна быть совершенно слепой: «христианам представляется случай проявить веру, когда они наталкиваются на нечто невероятное. Оно тем более согласно с разумом, чем более противоречит человеческому разуму» (Essais, ch. XII, p. 211). Человеческий разум не может овладеть истиной, все порожденное им шатко и спорно. В наказание нам за нашу гордость и дабы показать нам наше жалкое состояние и бессилие, Бог произвел смятение и беспорядок при столпотворении Вавилонском.
Я должен мимоходом отметить здесь еще никем не указанное совпадение в формуле, определяющей отношение веры к знанию, у Монтеня и Канта. Кант: «Я упразднил знание, чтобы дать место вере». Монтень: «Aneantissant son jugement pour faire place a la foi»* (p. 221). Разумеется, аналогия здесь чисто внешняя, ибо Монтень имеет в виду слепую веру в учение церкви, а Кант — сознательную веру в нравственный закон. Монтень хватается за веру конвульсивно: чем более велика нелепость, в которую мы должны верить, тем выше наша вера. В своем традиционализме Монтень граничит с оппортунизмом, напоминая нашего скептика и «романтика реакции» Конст. Леонтьева. Как Монтень прославлял невежество турок и ставил их «мудрое незнанье иноземцев» в пример французам, так и Леонтьев находил, что невежество народа — гарантия его морального здоровья и его живучести, и, прославляя Китай, говорил: «Россию нужно заморозить».
В Монтене литератор поглощает человека, у Шекспира же в «Гамлете» мы видим подлинную трагедию сомнения. Я упоминаю об этом не относящемся непосредственно к истории философии обстоятельстве, потому что влияние Монтеня на Шекспира, как показал Фосс, несомненно; сохранился экземпляр «Опытов» Монтеня с автографом Шекспира, и некоторые мысли «Гамлета» целиком взяты у Монтеня. В этом смысле Гегель метко оценил философское значение великой трагедии2.
1 «Бодрствуя, мы спим и, спя, бодрствуем. Я не так ясно вижу во сне, но и явь
представляется мне всегда не совсем ясной и не без дымки. Кроме того, сон в своей
глубине усыпляет порою сновидения; но наша явь никогда не бывает столь явственна,
чтобы окончательно очиститься от грез и рассеять их: грезы — сны бодрствующих
— сны, худшие настоящих снов. Если принять во внимание, что наш разум и наша
душа, воспринимая фантазии и мнения, зарождающиеся во сне, снабжают поступки во
сне таким же одобрением, какое они проявляют наяву, почему не усомниться нам
в том, не представляют ли наши мысли и действия наяву только другого рода сон, не
есть ли явь лишь разновидность сна?» (344).
2 Кризис сомнений Юлиуса Банзена, пессимиста, последователя Шопенгауэра,
описан в превосходной статье А. А. Гизетти «Забытый мыслитель» — «Вопросы
философии и психологии», 1907.
61
Если в глазах Монтеня загадка бытия не представляла ничего мучительного и он к вопросу «быть или не быть» относился с беспечным равнодушием (in utrumque paratus), то для Паскаля (1623-1662) это был вопрос жизни и смерти. В детстве уже великий математик, в юности создатель теории сочетаний, исследователь конических сечений, теории рулетки, изобретатель счетной машины, позднее выдающийся физик, производящий опыты по вопросу о vacuum, основатель гидростатики, этот пламенный дух, этот Брандт*, которому нужно или все, или ничего, мучительно ищет выхода из скептицизма, самого радикального, и страстно хватается за церковную веру, которую стремится оправдать, защитить со всеми ее случайными историческими и бытовыми особенностями. Он сомневается в реальности внешнего мира и других людей, сомневается в Боге и в то же время горячо стремится к вере. Самая высота религиозно-нравственного идеала, который рисуется ему, повергает его в ужас своею недостижимостью. Везде ему мерещится грех — в познании — libido sciendi, в жизни чувств — libido sentiendi, в жизни воли — libido dominandi, сладострастие познания, чувствования и властвования. Выход из сомнений он видит в слепой вере в церковную догму, в безусловном смирении ума перед нею. Глубина Паскалева трагизма, мне кажется, заключается именно в том, что у него нет цельной, вполне искренней веры, что он хочет взвинтить себя до такой веры, которая для него уже невозможна. Это видно, например, из того, что для доказательства бытия божия он прибегает к знаменитому пари. Орел или решка — Бог существует или нет? Вопрос теоретически абсолютно неразрешим, но мы должны решить его практически, ибо «nous sommes embarques — мы самой судьбой посажены на корабль жизни, и вопрос для нас практически сводится или к потере, или к приобретению бесконечного блаженства. Если Бога нет, беда будет невелика от нашего ошибочного верования, если он есть — мы в бесконечном выигрыше. Рассуждение это, достойное врагов Паскаля иезуитов своею жалкою казуистикой, нашло впоследствии через Бэйля, Локка и Руссо отголосок в 4-й антиномии Канта. (См.: Renouvier. «Introduction a la philosophie analytique de l’histoire», глава «Le pari de Pascal».) В жизни Паскаля были два переворота в сторону религии — два «обращения» — одно в 1646 г., когда ему было 23 года, другое в 1654 г. (31 год). Последнее связано с поразительным документом, который был предметом насмешек Вольтера, — это «амулет» Паскаля. Паскаль всю жизнь носил на груди листок бумаги, на котором описывается его второй кризис обращения. Вот начало этого документа, живо рисующего перед нами ту радость, то нравственное облегчение, которое нашел этот измученный сомнениями человек в слепой покорности церковной вере:
«L’an de grace 1654.
Lundi, 23 Novembre jour de St Clement.
Depuis environ 10 ‘/* du soir jusque environ 11 1/2.
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants.
Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, grandeur de Tame humaine.
Renonciation totale et douce.
Soumission totale a C. et a mon directeur»**.
62
Лелю делает анализ этого произведения с психиатрической точки зрения, совершенно минуя жизненную драму Паскаля. Для нас эти психиатрические подробности не представляют интереса.
Отца новейшего позитивизма Давида Юма, по-видимому, не только нельзя заподозрить в муках сомнения, но многие вообще склонны не считать Юма скептиком. И действительно, при чтении сочинений Юма мы находим курсив его мышления на понятиях обычая и веры. Уверенность в законосообразности природы, правда по Юму, покоится на привычке, на известном ассоциационном механизме нашего сознания, который, благодаря привычке, стал нашею второй природой. Однако то обстоятельство, что таково последнее слово юмовской философии, нисколько не исключает не только наличности скептического элемента в его учении, но и настоящих мук сомнения, а также наличности других душевных черт, которые мы считаем характерными для сомневающегося. К своему успокоению в области познания на культе привычки Юм пришел после тяжелой внутренней борьбы. Кризис сомнений был пережит им в юном возрасте (1734 г.), именно когда ему шел 23-й год. Об этом кризисе мы узнаем из одного письма Юма к врачу, где он описывает свой душевный перелом и сравнивает его с кризисом «обращения», как его описывают французские мистики. В этом замечательном