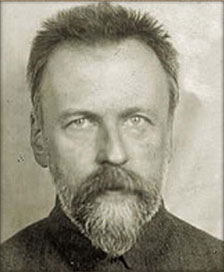перевоплощаемости и художнику, и историку нередко помогает конгениальность
1 См. сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. Москва, 1909, стр. 478-487.
112
изучаемого лица или типа с душою изучающего, или контрастная противоположность, или и то и другое вместе. Возьму для примера Алексея Толстого и Карлейля. Почему А. Толстому так удался в его трилогии именно царь Феодор? «Желание отказаться от блеска, уйти в себя так знакомо было Толстому. Бесконечно нежное чувство Феодора к Ирине так близко напоминает любовь Толстого к жене» (С. А. Венгеров). Толстой понял, что Феодор «не слабоумный, лишенный духовной жизни человек, что в нем были задатки благородной инициативы, могущей дать ослепительные вспышки». С другой стороны, если мы вспомним ибсеновского Брандта в образе историка, представителя доктрины «или все или ничего» (the doctrine of «all or none»), этой мятущейся души, преисполненной великих контрастов, для которой либеральный позитивизм Милля был свинской философией, «pig philosophy», то нам станет понятным его интерес к внутреннему миру Кромуэлля, письма и речи которого он издал, снабдив их примечаниями, «с могучим образом Кромуэлля Карлейль, можно сказать, чувствовал духовное сродство» (Гензель. «Карлейль», рус. пер. 1903, стр. 186). Точно так же Гензель замечает: «Я думаю, что французы никогда не были обрисованы лучше, чем в этих главах Карлейля о массовых движениях на старых улицах Парижа (в «Истории французской революции»). Соединение самой низменной кровожадности с самым возвышенным энтузиазмом, полной растерянности — с внезапно пробуждающеюся лихорадочной деятельностью, направленною к какой-нибудь безумной цели, ежедневные шествия на гильотину, а затем чувствительная растроганность в день мира, праздник в честь Верховного Существа, — все эти противоположные и притом одновременные обстоятельства Карлейль изображает с величайшим мастерством» (ib., 164).
Иногда можно подметить у историков влияние политической идеологии, бытового или эстетического уклада изучаемого ими народа и изучаемой ими эпохи на их собственных вкусах и взглядах. Так, например, культ Гомера у Шлимана был так силен, что на старости лет он построил себе большой дом в Афинах, внутри которого все напоминало Гомера. Сына он назвал Агамемноном, а дочь — Андромахой. Свой дом он окрестил именем слуги назывались Беллерофон
и Теламон. Из рабочей комнаты хозяина был виден при солнечном закате в пурпурном озарении Акрополь. С гостями-классиками Шлиман говорил на гомеровском диалекте, которым владел практически. Жена его София, жившая, подобно мужу, в гомеровском прошлом, знала, как и муж, весьма многое из Гомера наизусть и могла продолжать цитату, начатую мужем; в этом, по крайней мере, она сама нас уверяет. Гостям, затруднявшимся говорить на гомеровском диалекте, хозяин любезно предоставлял возможность изъясняться на родном языке.
И историк, и художник, долго занимающиеся изучением какой-нибудь эпохи или какого-нибудь человека, начинают сами порой мыслить и чувствовать в унисон со своими излюбленными героями. Флобер пишет: «В св. Антонии я сам был св. Антонием». Римский-Корсаков рассказывает, что, углубившись в течение нескольких лет в изучение и переработку опер Мусоргского, он порой самого себя чувствовал как бы Мусоргским. То же можно наблюдать и у историков. Было бы
113
несправедливо сказать, что в этой симпатии творца к изображаемому и изучаемому объекту следует видеть лишь следствие «логики чувств», ведущей к субъективизму. Едва ли кто станет оспаривать, что симпатическое вчувствование является необходимым условием для понимания мотивации в поступках изучаемого яркого индивидуума или изучаемого «среднего человека» известной эпохи. Ведь все науки о духе опираются на постулат формальной однородности в организации познающего духа исследователя и познаваемой личности в сфере истории, литературы, искусства, права или языка1. В истории неизбежно то, что академик Лаппо-Данилевский называет «конструкцией чужого я», в основе которой лежит не простое логическое заключение по аналогии, но более сложный психический процесс «влезания в чужую шкуру» путем эмоционального сопереживания. И это соображение сохраняет всю свою силу, будем ли мы оценивать исторический роман как научное исследование или как «научный источник». А между тем любой историк, беря в руки роман Вальтера Скотта «Woodstock», совершенно ясно сознает, что в данном случае нет места для «интерпретации» этой книги в качестве исторического научного источника. А казалось бы, бытовые подробности, скажем «Дочери египетского царя» Эберса, так же скрупулезно точны, как и картины русской жизни в «Быте московских царей» Забелина. Естественно, что все вышеприведенное приводило и еще и теперь приводит к некоторой спутанности мысли у историков по поводу взаимоотношения эстетического и научного моментов в образовании фан-тасмов исторического воображения. В давние времена Лессинг указывал (52-е письмо) на зависимость художественного исторического изображения от полноты или неполноты источников, а Гервинус советовал историку выбирать темы, подходящие для художественного изображения, и если Ранке осторожно заявляет: «Die Historie ist zugleich Kunst und Wissenschaft»*, напирая на первенство научного момента, то Зибер2 отожествляет творчество поэта и историка, строя силлогизм по второй фигуре с двумя утвердительными посылками:
1 Бернгейм пишет: «Die Identitat der Menschennatur ist das Grundaxiom jeder historischen Erkenntniss»* («Lehrbuch der historischen Methode», 1908, S. 192). Сеньобос замечает: «Если бы факты, сообщаемые источниками, не были аналогичны с наблюдаемыми нами, мы не могли бы в них ничего понять» (ib., S. 192).
2 Одним из поводов к смешению научно-исторического фантасма с поэтическим образом, я полагаю, является веками освященная литературная традиция, ведущая свое происхождение из «Поэтики» Аристотеля; в ней Аристотель, с одной стороны, интеллектуализирует эстетическое удовольствие, чрезмерно сближая поэзию с научным познанием: «Мы созерцаем с удовольствием подражания, потому что отсюда получается нечто поучительное, например при рассматривании портрета, когда мы устанавливаем сходство его с оригиналом»; с другой стороны, Аристотель обесценивает научное значение исторического познания, которое-де индивидуально, не имеет того типизированного, обобщенного, очищенного от иррациональных случайностей характера, каким отличается истинное поэтическое произведение, которое он считает более философским и серьезным, чем историческое повествование (гл. IX, 1451, в 5), «ибо поэзия занимается более общим, а история единичным». Аристотель не оттеняет здесь того факта, что типичность в художественном произведении есть лишь обобщенный образ, воздействующий на эмоциональную впечатлительность; история же, с другой стороны, вовсе не останавливается на единичном, но стремится к установке обобщений, объективно значимых для познания и выражаемых в понятиях.
114
Историк нуждается в фантазии.
Поэт нуждается в фантазии,
Значит, поэт и историк — одного поля ягоды.
Указанная спутанность мысли имеет одинаково невыгодные последствия и для историков в глазах исторической критики, и для художников в глазах художественной критики. Если история есть искусство, то к ней возможно со стороны серьезного ученого только радикально-скептическое отношение. Если все источники и их истолкования недостоверны, как плод субъективной фантазии, то анекдот о лорде Ралей приобретает глубокий смысл. Об этом лорде рассказывают, что он сжег второй том своей «Всемирной истории» после того, как убедился, что сцена, которую он видел на улице собственными глазами из своего окна, была истолкована другим очевидцем совершенно иначе. Наоборот, художникам-историкам достается от поклонников субъективизма и символизма в искусстве за излишнюю верность действительности, за «реализм», за «быт», за «этнографию», причем в своем усердии обелить великих писателей от «реализма» наши критики договариваются до того, что Гоголь оказывается фантастическим писателем, а Островский не живо-писателем «темного царства», а символистом, как будто фантастика, художественный реализм и символизм не представляют элементов творческого целого, вполне совместимых между собою.
Отметив черты сходства между фантасмами поэта и историка, обратимся к существенным чертам различия. У историков литературы есть излюбленная формула: «Поэт мыслит образами». Буквально понимаемая, она имеет столько же смысла, как фраза: «Философ сердится по второй фигуре силлогизма». Она попала в историко-литературный оборот от немецких философов-романтиков Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра, которые склонны все трое рассматривать эстетическое творчество и созерцание как особый сверхрассудочный, мистический орган познания. Так Шопенгауэр, как указывает Fauconnet в своей книге «L’esthetique de Schopenhauer», p. 1 (1913), высказывается следующим образом: «Wir betrachten das Schone, als eine Erkenntniss in uns, eine ganz besondere Erkenntnissart»* (Nachl., II, 63). В настоящее время туманное противопоставление обычному рассудочному роду познания необычного (мистического) вполне покрывается отчетливым противопоставлением двух родов мышления — познавательного и эмоционального (см. подробности в моей работе о книге Генриха Майера «Психология эмоционального мышления», «Новые идеи в философии», вып. № 15). Эмоциональное мышление отличается от познавательного тем, что в нем хотя и имеются налицо познавательные процессы, но фокус внимания, курсив всего процесса положен на конечный эмоциональный эффект. Таково и эстетическое «мышление». Мыслить образами абсолютно невозможно, но можно, созидая образы, давать чувствовать себе и другим их типичность и тем вызывать чувство единства в многообразии эстетического содержания. Но, создавая типический родовой образ, поэт не восходит к понятию, к нечувственной области мышления. Он останавливается, так сказать, у порога чистого мышления. Прометей, Гамлет, Ричард III, Борис, Чичиков, Эжени Гранде и т. д. не суть понятия, но родовые образы. Поэма, роман, драма, опера суть целост-
115
ные системы родовых образов, образующие стройное, но не логическое, а эмоциональное единство. Такое единство не убеждает, а заражает нас, не доказывает, а внушает. Первородный грех литературно-художественной и научно-исторической критики заключается в смешении двух различных планов творчества — познавательного и эмоционального мышления. Так, например, я помню, как отрицательно относился покойный академик Александр Николаевич Веселовский к «Нибелунгову перстню» Вагнера. Его шокировали резкие отступления от духа скандинавской «Эдды». Известный историк церкви профессор Никольский говорил мне, что ему портит эстетическое наслаждение от «Китежа», Вельского — Римского-Корсакова мысль о синкретизме образов, вошедших в художественную ткань этого произведения. С другой стороны, стремление художников быть строго реалистическими в исторической живописи даже в мелочах быта приводит иногда к бесплодным результатам. Когда Гольман Гент, работая над картиной «Юный Христос во храме», пустил в ход все свои археологические познания, то все же в итоге оказалось, как ему заметил один старый раввин, что он неверно нарисовал обувь на ногах действующих лиц: в той местности никогда не носили такой обуви.
Если поэт останавливается на родовом образе и не идет дальше, то историк начинает с конструкции родового образа, чтобы перейти к научному понятию. Это осуществляется следующими путями:
I, По принципу кинематографа: берется ряд однородных родовых образов, характеризующих какое-нибудь явление, отличающееся частою повторяемостью в известной среде, в известную эпоху и, по выражению проф. Л. П. Карсавина, бросаемостью в глаза. Данный ряд образов, когда мы его пробегаем, намечает перед нами среднего человека не для нашего чувства, а для нашей мысли. В поэзии подобная кинематографическая смена образов имеет целью породить слитное общее эмоциональное впечатление, обобщенную эмоцию; так, например, стихи
Швед, русский — колет, рубит, режет, Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон*, —
дают подобный слитный, типический, эмоциональный эффект. Наука же идет к установке общего