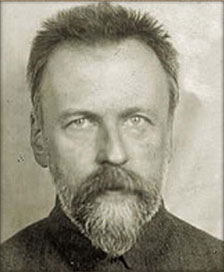ощущения суть только фикции, тогда, по Файингеру, выходит, что все на свете есть фикция. Если же все на свете есть фикция, то, значит, нет и фикции, ибо понятие фикции мыслимо лишь в соотношении с чем-нибудь, что не есть фикция. Для занимающего нас вопроса о значении в философском творчестве заключения по аналогии важно установить, что то пресловутое заключение, о котором говорят эмпиристы, вовсе не есть логический процесс, т. е. акт мысли. Под заключением по аналогии надо понимать что-нибудь из двух: 1) или то, что разумел под ним Кант и что сходно с описанною нами выше (стр. 156) индукцией содержания, в которой для логической правильности вывода всегда должна подразумеваться большая посылка в виде закона причинности или принципа единообразия природы; 2) или же «заключение» по аналогии есть простой ассоциативный комплекс из 4-х представлений, который я назвал бы ассоциативным аналогом. Пример: когда я отпираю дверь моей комнаты, я антиципирую картину ее обстановки. Здесь между процессом отпирания двери и образом обстановки образовалась ассоциация: воспоминание о прежнем отпирании — воспоминание о прежде виденной обстановке комнаты — теперешнее отпирание двери и антиципация знакомой обстановки. Здесь нет никакого умозаключения, равным образом его, разумеется, нет и в тех случаях, где мы имеем дело не со сходными предметами или образами, но лишь со сходством отношений. Гоппе в небольшой, но содержательной работе («Die Analogie, ein Versuch auf der Gebiete der Logik», 1870) весьма убедительно доказывает эту мысль.
Ассоциативный аналог не есть процесс мышления, но чувственная база для такого процесса. Следует говорить не о заключении по аналогии, а о чувстве аналогии, которое и есть то, что мы называли смутною догадкою, интуицией и т. п. Оно в этом смысле — источник величайших открытий и величайших заблуждений человеческой мысли. Оно лежит в основе всякой гипотезы.
Вопросу о значении аналогии в философском творчестве посвящена интересная статья Геффдинга «Analogy, its philosophical importance»
157
(«Mind», 1905). Он показывает в ней, что попытки философов постигнуть мир как целое, истинно сущее сводились нередко к переносу на космос как целое свойств одной какой-нибудь его части по аналогии. И, действительно, прибавлю я, для материалиста мир является сверхмеханизмом, для гилозоиста — сверхорганизмом, для монистического идеалиста (вроде Фихте) — сверхдухом, для плюралистического идеалиста (вроде Лейбница) сверхобществом. Широко пользуются мнимым заключением по аналогии представители мистицизма, о чем я буду подробно говорить в главе о «Творческом Эросе», а теперь поясню ложное применение аналогии на одном рассуждении Плотина. Плотин был едва ли не первым философом древности, который поставил проблему «чужого я» или множественности сознаний. Как примирить единство мировой души со множественностью эмпирических личностей? Отчего мы все не сливаемся в единое сознание в мировой душе? Чтобы ответить на такой вопрос, чтобы дать объяснение совместимости многого с единым, Плотин пользуется исключительно ассоциативными аналогами. То он уподобляет мировую душу источнику света, из которого излучается множественность лучей, то огромному китообразному существу. Подобно тому как такое существо может не чувствовать раздражения отдельной своей части, так и мировая душа не сознает переживаний индивидуального человеческого сознания. Или он уподобляет мировую душу огромному дереву которое не сознает психической жизни зародив-
шихся в нем мелких паразитов (см. об этом превосходную книгу Вашро: Vacherot: «Histoire de l’ecole d’Alexandrie», 1846, гл. 1, p. 435-442). Подобная подмена логического процесса игрою ассоциативными аналогами еще ярче выступает у Прокла, который моменты диалектического процесса мысли сближает с образами древней мифологии. На смену таблицы онтологических категорий здесь выступает Пантеон богов, и, таким образом, происходит деградация философской мысли в мифологическую форму. О проявлении подобной наклонности у немцев Грилльпарцер говорит в одном стихотворении следующее:
Der Pedantismus und die Phantasie, Vergingen sich, ich weiss nicht wie, Und zeugten Mischlingskinder die, Als Pflanzer sie nach Deutschland sandten, Die sonst im Weltall unbekannten: Phantastischen Pedanten1.
1 «Педантизм и Фантазия, согрешив, уж не знаю как, породили ублюдков и послали их в Германию в качестве еще неведомых миру растений: фантастических педантов».
том
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЕНЕЗИС ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ I. Три особенности первобытного мышления
Философское изобретение есть самый поздний плод человеческой культуры. «Когда философия, — писал Гегель, — со своими абстракциями рисует седину жизни в серых тонах, свежесть и жизненность юности уже прошли, сова Минервы начинает свой полет во всемирно-исторических сумерках» («Философия права»). Все формы человеческого творчества лишь постепенно дифференцировались из первобытного религиозно-магического отношения человека к миру — язык, искусство, политика, право, экономика, техника, науки и философия. Три черты характеристичны для этой первобытной идеологии.
1. Спутанность мысли, неясность, неустойчивость, колеблющиеся контуры понятий. Это обстоятельство дало повод в новейшее время Леви-Брюлю в книге «Les fonctions mentales chez les peuples primitive»* защищать мысль, будто у первобытных народов мышление совершается не по известным нам законам логики, в силу которых противоречащие признаки несовместимы в том же объекте мысли, но наперекор этому закону, так что дикарь, утверждая, например, что попугай — колдун, не мыслит, что попугай есть колдун в образе попугая, но что данный объект мысли совмещает в себе логически несовместимые свойства. Все во всем и все действует на все — вот тот принцип первобытной магии, который Леви-Брюль называет hi de participation**. Утверждение Леви-Брюля находится в самом резком противоречии не только с общим принципом формальной однородности физико-психической организации (см. том 1, стр. 155), который должен быть положен в основу всякого исторического исследования, но несовместим и с тем очевидным обстоятельством, что без единообразия мышления и хотя бы смутного чувства его законосообразности невозможны ни отождествление, ни различение, ни узнавание, ни ассоциативная деятельность, это противоречит факту постепенного выявления логической структуры человеческого разума на почве приспособления к окружающей среде. Спутанность первобытной мысли, и притом отнюдь не в сфере личной будничной жизни, где действуют такие же, как и у нас, законы (это отмечает и сам Леви-Брюль), а только в сфере религиозной, коллективной магической идеологии, является именно причиной иллюзии, в которую впал Леви-Брюль. Секрет подобных иллюзий разъяснен мною в книге «Законы мышления» etc., стр. 222. Он заключается в том, что при спутанности мышления логические элементы мысли, образующие противоречащее
161
понятие, не приведены сознанием в непосредственное соприкосновение друг с другом.
2. Религиозно-магическое мышление есть эмоциональное, а не позна
вательное мышление — вот почему, как мы уже указывали, не может
быть речи о теологическом фазисе философии. Философия зарождается
тогда, когда вера в богов, как практическая опора в жизни человека,
начинает изменять ему. «Логика чувств» терпит крах вследствие того,
что наряду с успешными начатками в области положительных знаний
оказывается, что боги обманули ожидание людей.
Нет правды на земле,
Но правды нет и выше!*
«Не всегда боги награждают добрых и карают злых». Эта мысль встречается уже во время Солона (594 до Р. X.). «Ведь многие дурные люди богатеют, а хорошие находятся в нужде». Сознание несправедливости, экономического неравенства является, таким образом, мощным стимулом для пробуждения сомнений (см.: Deussen. «Geschichte der alteren Philosophie», введение).
3. Первобытное мышление, поскольку оно вращается в религиозно-
магическом круге, отличается зависимостью от групповой идеологии
традиционализма — внушаемость ее авторитарным воздействиям сос
тавляет третью черту первобытной мысли. Но указанные три черты
религиозно-магического образа мыслей продолжают сосуществовать
бок о бок с научной философией вплоть до наших дней в «магическом
идеализме» немецких романтиков или в традиционализме философов,
стремящихся «примирить» церковную религию с философией.
П. Философский фольклор. Афоризм, диалог и система как литературные формы философской мысли
Зачатки литературных форм, в которых проявляется философская изобретательность, нужно искать в изречениях, пословицах и загадках. Здесь имеется то, что можно было бы назвать философским фольклором. Любопытно, что Гегель относится к «народной мудрости» с высокомерным пренебрежением («Phaenomenologie», S. 553): «In ruhigem Bette des gesunden Menschenverstandes gibt das naturliche Philosophieren eine Rhetorik trivialer Wahrheiten zum besten» («на покойном ложе здравого человеческого смысла естественное философствование в лучшем случае дает риторику тривиальных истин»).
Совершенно иначе смотрит на дело Платон (см. Eugen Grunwald: «Sprichworter und sprichwortliche Redensarten bei Plato», 1893). В своих творениях он широко пользуется пословицами, ценя остроту и глубину многих из них. У него упоминаются пословицы, относящиеся к сказаниям, религии, истории, географии, домашней и общественной жизни, играм, ремеслам, философии, театру и животным. В курсах истории философии ограничиваются обыкновенно указанием на изречения «семи мудрецов», объединенные позднее в семистишье. Между тем народные пословицы и загадки вообще представляют большой интерес вовсе не
162
как форма «естественного философствования», но как почва, на которой зародилась простейшая форма философского изобретения — афоризм. Центр тяжести в народной пословице лежит не в теоретическом, познавательном содержании, но в ее отношении к практическим интересам жизни. Превращение пословицы в философский афоризм осуществляется тогда, когда центр тяжести в духовных интересах перемещается из области практической в область теоретическую. Это положение можно иллюстрировать на Анаксимене. У греков была пословица, имеющаяся и в «Пословицах русского народа» Даля: «Из того же рта и тепло и холодно». Ее смысл метафорический: она указывает на то, что тот же человек может проявлять прямо противоположные свойства. Между тем Анаксимен обращает внимание на физический факт и дает ему толкование в духе своей механической теории: тепло есть разрежение — маносис, а холод — сгущение — пикносис, толкование, на ложность которого в применении к этой пословице указывал уже Аристотель, но толкование, порожденное чисто теоретическим научным интересом. Загадка о вшах (вроде нашей о соплях — «мужик на землю бросает, а барин в карман собирает»), изобретенная греками для потехи, дает повод Гераклиту к следующему меланхолическому размышлению: «Люди обманываются относительно познания видимых вещей, подобно Гомеру, который был мудрее всех эллинов, взятых вместе. Ведь его одурачили дети, убивавшие вшей, сказав: все то, что мы увидели и поймали, мы выкинули, а то, чего мы не увидели и не поймали, то носим» (fr. 56). Подобным же образом Малебранш пользуется тою же загадкою в «De la recherche de la verite» (кн. VI, гл. 7) с научно-психологическою целью: так в вопросе, который служанки нередко предлагают детям. «Видела я,
— говорят они, — охотников или рыболовов, которые то, чего не
поймали, носили, а то, что поймали, бросали в воду». По Малебраншу,
слушатель здесь сбивается с толку тем, что внимание его направляется
на слово рыболовы, и именно это затрудняет разгадку (к загадке мы еще
вернемся в V главе).
Среди пословиц русского народа, приводимых у Даля, многие носят в себе зачаток или потенцию для зарождения философской или психологической идеи, того, что станет Логосом на другой ступени развития, недаром в древнейших летописях пословицы иногда называются словами: «Изяслав рече слово то, яко же и переже слышахом: не идет место к голове, но голова к месту» (см. «Введение в историю русской словесности» Владимирова). Вот ряд примеров: «Так»