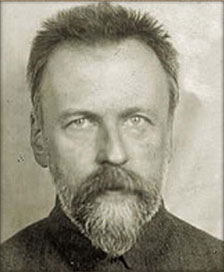быстро и хорошо, откуда, разумеется, еще не вытекает другое положение, будто оригинальнейшие мыслители — все суть варварские писатели, а мастера стиля — суть апостолы здравого смысла, иначе говоря, будто качества стиля обратны глубине мысли. Вот интересное описание манеры Гегеля читать лекции: «Нельзя себе представить более пластического выражения этого затруднения и тяжкого труда, чем в форме его лекций. Как древние пророки, — чем настойчивее они боролись с языком, тем выразительнее высказывали то, что боролось в них самих, отчасти побеждая, отчасти побежденные, — точно так же боролся, побеждал и он, с неуклюжею серьезностью. Весь углубившись в свою мысль, он, казалось, развивал ее для слушателей только из нее самой, ради нее самой, как бы не из своего духа, и тем не менее она возникла из него одного, и почти отеческая забота о ясности смягчала упорную серьезность, которая могла бы отпугнуть от восприятия таких трудных мыслей. В самом начале он уже запинался, потом опять повторял фразу, останавливался, говорил и думал. Казалось, ему никогда не удастся найти подходящее слово, но вот вдруг он с уверенностью произносил его, оно оказывалось простым и тем не менее было неподражаемо подходящим, неупотребительным и в то же время единственно правильным. Всегда казалось, что самое важное должно быть высказано еще впоследствии, и тем не менее оно уже незаметно и в совершенно полной форме было высказано. Наконец, ясное значение мысли бывало охвачено, и являлась надежда на желанное движение вперед. Напрасно! Мысль, вместо того чтобы двигаться вперед, вращалась на одном и том же месте, выражаясь все в сходных словах» (см. Куно Фишер: «История новой философии», т. VII, «Гегель», стр. 218; Фишер цитирует слова одного из слушателей Гегеля — Гото из его книги: «Vorstudien fur Leben und Kunst»). Разумеется, в жалобах на неясность может быть повинен и читатель, особенно
184
когда философа читает человек с глубоко различным умственным укладом, не способный перевоплотиться в строй души автора. Вот забавное рассуждение, по-видимому, Сиэса, которому кто-то показал латинский перевод «Критики чистого разума», о стиле Канта: «Эх, да ведь ваш Кант — поэт! Тут нет никакой философии. Я не имел сил добраться до 20-й страницы. Это все слова, вместо вещей, бесполезная головоломка, новый потоп схоластики… Ученики Канта говорят: «Прочтите, прочтите сами». Ну вот, я читаю и вижу, что не могу двигаться дальше. Брррр!» — прибавил он с укоризненной миной (см. Альтонское издание: «Frankreich im Jahre 1797». № 3, Ausziige aus Pariser Briefe).
IV. Чувства, связанные со стремлением к единству в многообразии. Кант пишет: «Вскрытие связи двух или нескольких эмпирических гетерогенных законов в одном объединяющем их принципе составляет источник весьма замечательного удовольствия, иногда даже восторга, который не прекращается, даже когда предмет стал знаком нам. Правда, мы уже не находим более замечательного удовольствия охватывать единство природы в делении на виды и роды, составляющие единственное conditio sine qua поп* эмпирических концептов, при помощи которых мы познаем ее в ее частных законах. Но, несомненно, было время (Кант, очевидно, намекает на ранние диалоги Платона), когда это деление доставляло нам удовольствие, и лишь в силу того, что ординарнеишии опыт не был бы возможен без этого деления, оно незаметно слилось с простым познанием и перестало привлекать наше внимание… Наоборот, мы испытали бы величайшее неудовольствие, представив себе природу, в которой мы рисковали бы в наших исследованиях за пределами простых опытов натолкнуться на такую гетерогенность законов, которая лишила бы наш рассудок возможности свести частные законы к общим» («Критика способности суждения». Введение, VI). Подобную же мысль развивает Пуанкаре, делая предположение, что химических элементов в природе было бы не 60, а 60 миллиардов («Наука и метод», 1910, стр. 9).
Стремление к единству в многообразии проявляется, кроме указанных тенденций:
1. В стремлении к симметрии формул, схем, синоптических таблиц, вообще соотношений мыслей, представленных в одновременном синопсисе в статическом разрезе. Такова знаменитая таблица категорий Канта, которой он пользуется в целях экономии мысли в «Критике чистого разума», «Критике практического разума», в «Критике способности суждения», в «Метафизических началах естествознания», в философии права.
2. В стремлении к ритмичности диалектического развития мысли в динамической стороне изложения системы. У Платона, Аристотеля, Прокла, Гегеля эта тенденция выступает особенно ярко.
3. В чувстве целостной концепции, в общем архитектоническом
стремлении придать всей системе характер стройного, симметрически
расчлененного целого. Так, Спенсер, говоря об огромном удовольствии,
которое он испытывал, развивая вновь появляющиеся в его мозгу идеи,
указывает, как на главный мотив творчества, наряду со славою, на
185
«архитектонический инстинкт или, говоря более простым языком, любовь к построению систем»1.
Чувство уверенности, убежденности в объективной значимости системы, в том, что она в существенных чертах верно отображает природу истинного познания мира, существенно отличает ученого и философа от художника, для которого важна лишь эстетическая правдоподобность, который стоит по ту сторону истинного и ложного в том мире «кажимости», где «этим милым заблуждениям и веришь, и не веришь ты». Философская система мыслится нами как объединенная всевременная и всепространственная корреляция нечувственных логических смыслов или содержаний мысли. Но каждому нечувственному содержанию мысли соответствует конкретный чувственный материал в виде зрительных, слуховых, осязательных и моторных образов, слов и эмоциональных подголосков — в форме органических состояний и ценестезии**, и потому переживание каждой философской мысли окажется подобным комплексному числу, в котором мнимая и вещественная части несоединимы, как масло и вода. Если S есть ощущения и представления, е есть эмоциональные подголоски2, а нечувственный смысл мы уподобим мнимому числу то все переживание
философской мысли выразится через: Воспроизведение
мыслей всегда опосредствовано чувственным моментом S + е, так что ассоциация возникает между мыслями А и В, где
Не бывает ассоциаций между без
участия чувственного элемента, но возможна наличность последнего, когда смысл еще не появился в сознании или не осознан ясно. Так бывает, когда мысль не оформлена еще нами в слова, но лишь смутно чувствуется нами по предваряющим ясное ее осознание соответствующим чувственным подголоскам; тогда мы испытываем «мыслей без речи и чувств без названия радостно мощный прибой»*** (Вл. Соловьев). Таким образом, мы чуем содержание мысли по ее чувственным симптомам и подголоскам. В таком случае возможно, что мы, не сознавая непосредственно логической гармонии или несоответствия, т. е. противоречия двух мыслей, можем смутно чувствовать их соответствие или несоответствие косвенным образом. Таким путем мы можем чуять гармоничность и продуктивность сопоставления двух терминов и с по их чувственным симптомам, еще не осознавая вполне их
логическое содержание, в особенности если чувство соотношения между ними связано с ранее знакомым нам чувством отношения между некоторыми терминами Таким путем смутно нащупыва-
ется средний термин синтетического силлогизма, например: этот почтовый листок бумаги имеет обожженные края. Но листок бумаги с обожженными краями есть, быть может, шифрованная депеша, писанная симпатическими чернилами. Следовательно, может быть, и это письмо есть шифрованная депеша.
1 Сближение наклонности к строительству систем у философов с архитектоничес
ким инстинктом у животных мы встречаем до знаменитых уподоблений Франциска
Бэкона: эмпириков — муравьям, схоластиков — паукам, в средние века: «Logicus
araneae potest comparari»*.
2 Их природа выяснится для нас при анализе творческой воли в следующей главе.
186
А. Ланг, как мы увидим ниже, додумался до такой догадки во сне, — быть может, соответствие и гармония между чувственными коррелятами мыслей во сне натолкнули здесь и на сопоставление самых мыслей. Пуанкаре полагает, что в смутно сознательной области (он называет ее подсознательной) мы бываем особенно чутки на красивые комбинации, т. е. продуктивные, а к другим относимся безразлично. А об их красивости, т. е. привлекательности и продуктивности, мы судим путем сравнения с ранее знакомыми нам.
И у математика чувства гармонии, ритмичности, симметрии, объективной значимости, архитектоничности мыслей образуют эту нашу эстетическую в кавычках чувствительность, и он вызывает в сознании соответствующие смыслы: «…когда внезапное вдохновение озаряет ум математика, оно обыкновенно не обманывает его, но (как я говорил) иногда оно его и обманывает. И что же? Мы почти всегда замечаем, что обманувшая нас идея, не будь в ней ошибки, поразила бы наше естественное чувство математической красоты». В комбинаторике множества смутных антиципаций логического смысла «эта специальная эстетическая чувствительность играет роль тонкого решета». При помощи подобного решета происходит отбор полезных, чреватых последствиями комбинаций (Пуанкаре. «Наука и метод»).
Академик О. Д. Хвольсон любезно сообщил мне в высшей степени замечательный случай из своей личной деятельности ученого: «Для всякого тела следует отличать две различные теплоемкости: теплоемкость с при постоянном объеме v и теплоемкость с при постоянном давлении р. Из них первая равна тому количеству теплоты, которое потребно для нагревания тела на 1° при условии, чтобы его объем при этом не менялся (например, при нагревании газа, находящегося в закрытом сосуде). Вторая определяется теплотою, необходимою для нагревания тела на 1°, когда оно может свободно расширяться под неизменным внешним давлением р (нагревание газа, помещенного, например, в вертикальном цилиндре, снабженном подвижным поршнем, который при нагревании газа поднимается). Термодинамика доказывает, что между величинами сv и cp существует связь вида сp = сv + а, или cv = сp — а, где а зависит от свойств вещества и может быть вычислено, когда эти свойства известны, т. е. в достаточной мере экспериментально изучены. Положим, что в каком-либо физическом или химическом процессе (явлении) мы имеем дело с некоторою величиною s, зависящею от свойств тех тел, которые участвуют в этом процессе, и, между прочим, от их теплоемкостей, и что найдена формула, определяющая зависимость величины s от тех величин, которыми эти свойства тел определяются. Указанная связь между сv и cp дает возможность ввести в эту формулу любую из величин сv или сp. Однако зависимость величины s от сv или
сp, вообще говоря, не будет одинаково простою. Если, например, s пропорционально сp т. е. мы имеем формулу s = bsp, где b — множитель пропорциональности, то, вводя с вместо сp, мы получим более сложную зависимость
187
л
«Мне было поручено дать отзыв об одной диссертации. Ознакомляясь с нею сперва поверхностно, я наткнулся на главу, в которой автор рассматривает некоторую определенную химическую реакцию, которая может происходить или при постоянном объеме v, или при постоянном давлении р. Пусть s — та теплота, которая выделяется в первом случае, a sp — теплота, выделяющаяся во втором случае. Автор теоретически выводит две формулы для величин sv и sp. Каждая из них состоит из трех членов, причем один из этих членов пропорционален теплоемкости того газообразного вещества, которое участвует в рассмотренной реакции. Взглянув на эти две формулы, я увидел, что та из них, которая определяет величину sv (реакция происходит при постоянном объеме v), содержит член вида bcp,