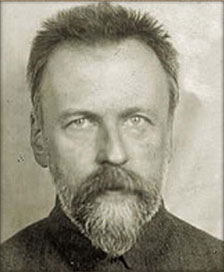высказывались одни умозрительные догадки, но этот
новый мир прямо ставился в связь с духами, и допущение его существова
ния служило объяснением спиритических явлений. Несостоятельность
теоретической стороны подобных рассуждений показана мною в книге
«Законы мышления и формы познания» (стр. 104). Здесь я укажу лишь на
то, как изобретательность современных метафизиков связала эту пробле
му построения 4-мерного мира с определенного рода психическими
деятельностями человека, именно упражнением памяти и воображения.
Память и творческое воображение, как известно, участвуют в процессе образования восприятий. Мы вырабатываем в себе способность видеть при помощи экстраполяции и интерполяции воображения не воспринимаемое непосредственно нутро предметов и те части их, которые лежат за пределами нашего непосредственного кругозора. И вот некоторые метафизики пытаются использовать эту нашу способность, полагая, что, научившись путем упражнений видеть каждый предмет сразу со всех сторон, примерно как его пытаются изобразить некоторые художники-футуристы, мы тем самым разовьем в себе искусство видеть вещи не с точки зрения нашего индивидуального, а Сверхличного Сознания, Сознания вообще или, как выражается д-р Хинтон, Высшего Сознания, иначе говоря, мы узрим вещи в себе. Так мы воспринимали бы мир трехмерный, глядя на него из четвертого измерения. «Первое упражнение, приводимое Хинтоном, — пишет П. Д. Успенский («Четвертое измерение», 1910, стр. 8), — состоит в изучении куба, состоящего из 27 кубиков, окрашенных в разные цвета и имеющих различные названия. Изучив куб, составленный известным образом из меньших кубов, мы должны перевернуть его и изучать (т. е. стараться запомнить в обратном порядке, потом опять перевернуть кубик известным образом и запомнить в таком порядке). В результате, как говорит Хинтон, можно в изучаемом кубе совсем уничтожить понятия сверху и снизу, справа и слева и знать его независимо от взаимного положения составляющих его кубиков, т. е., вероятно, представлять одновременно в различных комбинациях. Это будет первым опытом в уничтожении личного элемента в представлении о кубе».
4. Моральный аллегоризм. Как на первобытных ступенях мысли, так
и в новое время мы встречаем у религиозно настроенных философов
стремление устанавливать аналогии между миром земным и небесным,
физическим и духовным, естественным и моральным. В особенно яркой
форме это наблюдается у шведского натуралиста и философа Сведен-
борга после мистического переворота, пережитого им на 57-м году (1745,
род. в 1688 г.). В своих «Arcana Coelestia» (1749-1750) он развивает
учение о соответствии (correspondentia) в Св. Писании смысла вещест
венного и духовного: «Всем предметам и качествам в мире натуральном
192
есть что-нибудь соответствующее в мире духовном». Так, например, везде, где в тексте Библии говорится о камнях, камне, каменном, — это относится к духовному смыслу — к вере, верности или к истине со стороны ее твердости и т. д. Было бы неосновательно считать данный пример нехарактерным для нормального мышления, усматривая в Све-денборге просто душевнобольного, ибо слабость в пользовании чувством аналогии по своей логической природе совершенно одинакова у всех людей независимо от ее этиологического происхождения (см. о Сведенборге превосходную статью Вл. С. Соловьева «Собрание сочинений», т. IX, дополнительный, стр. 232-245). Не надо забывать, что подобный пример мышления весьма распространен в примитивных и упадочных формах философского творчества.
5. Наряду с рассмотренным нами стремлением философов к симметрии формул и схем тенденция придать изложению системы мира мерность, ритмичность равным образом ведет нередко даже величайших из них к искусственности. Она обнаруживается в двоякой форме. 1) Желание воссоздать в связной форме законченную концепцию мира, развернуть перед читателем генезис космических явлений в рациональной форме побуждает насиловать факты, не принимать в достаточной мере в расчет запутанность, сложность явлений, упрощать их за счет верности их описания. 2) Соответствие данных опыта (внешнего и внутреннего) излюбленным схемам мысли достигается при помощи расплывчатости, неясности основных понятий, благодаря которой можно мнимым образом включить в них неподатливый материал действительности. И тот, и другой недостаток мы наблюдаем у Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, Спенсера, Авенариуса.
Возьмем для примера Гегеля и Спенсера. Оба претендуют, один с панлогической, другой с эволюционной точки зрения, «den grossen Gedanken der Welt noch einmal zu denken»*. На протяжении ряда томов перед нами совершается вальсообразное движение диалектической мысли.
Тезис — переход материи из состояния рассеянного в сплоченное
— интеграция.
Антитезис — из однородного в разнородное — дифференциация. Синтезис — из неопределенного в определенное — спецификация.
Природа, история, право, искусство, философия — все оказывается в своем развитии подчиненным этим ритмически повторяющимся переходам мысли. Однако это покупается ценою чудовищного насилия над фактами. Натурфилософия Гегеля давно уже нашла в себе в этом отношении суровое осуждение, да и другие более ценные части его системы, даже лучшая из всех — история философии, сохранили ценность лишь в отдельных частях, которые, действительно, заключали в себе гениальные догадки. Система Спенсера со стороны фактической также оказалась во многих отношениях неудовлетворительной,
— вспомним хотя бы суровый отзыв об «Основах биологии» Ильи
Мечникова. Но, с другой стороны, обе концепции страдают двусмыслен
ностью основных понятий. Давно установлено частое смешение у Гегеля
понятий противоречия и противоположности. Равным образом и у Спен
сера Лаланд вскрывает двусмысленность в самой формуле эволюции.
193
Лаланд показывает, что Спенсер втискивает процесс развития в свою формулу, употребляя тот же термин то в одном, то в другом значении. По поводу интеграции материи он пишет: «Логическая неопределенность здесь происходит, очевидно, оттого, что то же явление получает то геометрическую, то механическую интерпретацию и что эволюционисты применяют то ту, то другую интерпретацию» (см. Lalande: «Ladissolution, comme opposee a revolution», 1909). Основательную критику «закона развития» Спенсера дает Bernhard Brunhes: «La degradation de l’energie», 1908, p. 343-353. Перенос понятия интеграция на область психической эволюции создает еще большую искусственность, ибо Спенсер утверждает1, что психика на низших ступенях сознания (например, у червей) находится в состоянии рассеянном, а у высших животных — в состоянии сплоченном, как будто психика была какая-то тонкая жидкость, к которой применимы физические понятия (см. об этом мою статью «Э. фон Гартманн». Русская Мысль, 1906). «Заблуждения философов» в применении их к архитектонической наклонности, к строительству систем искупаются множеством гениальных озарений мысли, рассеянных в их творениях, и только нигилисты и скептики, подобные Ницше, могут говорить: «Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности»*. Великие открытия и великие заблуждения происходят из того же творческого процесса, и Джэмс совершенно прав, говоря: «Важно отметить, что удачные проблески мысли и неудачные, блистательные гипотезы и абсурдные замыслы находятся в одинаковых условиях в смысле их происхождения. Нелепая «Физика» и бессмертная «Логика» Аристотеля проистекают из того же источника. И ту и другую породили те же творческие силы» («The will to believe» etc., p. 249).
XII. Формальные чувствования в интеллектуальной области в их отличии от эстетических чувствований
Интеллектуальные чувства, описанные нами, как мы видели, имеют сходство с эстетическими, что нередко дает повод к их смешиванию. Делается та же ошибка, которую допустил проф. И. А. Ильин, смешав перевоплощаемость эстетическую с историко-философской. Творчество математическое и техническое иногда чересчур сближается с художественным. Так, проф. А. В. Васильев (в замечательной статье «О принципе экономии в математике») приводит стихи математика Кронекера по этому поводу:
Nonne mathematici veri natique poetae Sunt, sed quod fingunt hosce probare decet!*
1 В данном случае Спенсер сделался жертвою своего «архитектонического инстинкта». Он пишет о себе в «Автобиографии»: «Во мне живет художник, непрерывно стремящийся к творчеству прекрасного не в том смысле, в каком обыкновенно понимается это слово, а в смысле той прелести, какая кроется в философском построении. Во мне постоянно жило желание отделать и сделать симметричными как основные, так и второстепенные доказательства моих идей» (см.: «Автобиография», русский перевод, т. II, стр. 256).
194
По словам проф. М. А. Блоха, Вант-Гофф в своей амстердамской лекции «О фантазии в науке» приводит свыше 50 примеров в подтверждение мысли, что ученым присуще художественное чувство, которое Вант-Гофф называет здоровым выражением фантазии. Во многих из приводимых (по Вант-Гоффу) проф. Блохом примеров дело идет не о творческом даровании в искусстве, а о способности к художественному восприятию и даже менее того — о любви к какому-нибудь поэту, причем еще неизвестно, в какой мере эта любовь свидетельствовала о наличности эстетического вкуса. Во всяком случае, здесь может идти речь лишь о корреляции в духе ученого двух различных наклонностей — наклонности к эстетической гармонии, симметрии, эвритмии и архи-тектоничности и наклонности к подобным свойствам в сфере интеллектуальных чувствований. Этого не следует ни в каком случае смешивать. Мне думается, что вполне возможно слабое проявление эстетических наклонностей при необычайно развитой чуткости к гармонии, эвритмии и симметрии в области интеллектуальных чувствований. Прежде чем высказываться об общераспространенности корреляции эстетических и интеллектуальных дарований, надо тщательно исследовать, не встречаются ли instantiae contradictoriae* (см. ценную книгу М. А. Блох: «Творчество в науке и технике», 1920, стр. 18-20).
Батайль в своем «Traite des machines a vapeur» пишет: «Мы глубоко убеждены, что совершенствованием могучих машин, этих действительных источников и двигателей производительности и промышленности в наши дни, мы, несомненно, обязаны людям с поэтическим пламенным воображением, а вовсе не людям односторонним, узким специалистам». Все это бесспорно, и тем не менее интеллектуальные чувствования в творческой фантазии ученого или техника отличаются от эстетических следующими свойствами.
I. Стремление к свободе от противоречий для ученого обязательно безусловно, ибо внутреннее противоречие разрушает самую постройку мыслей. В искусстве, которое непосредственно имеет дело лишь с типическими образами и чувствованиями, противоречие может получиться в уме зрителя или читателя или: 1) от логической несообразности сюжета, таковая недопустима и в искусстве, или 2) от несообразностей мыслей, высказанных действующим лицом в художественном произведении. Такое противоречие может быть источником умышленного комического эффекта, создаваемого художником, и в таком случае оно является целесообразным. Когда гоголевский герой рассказывает повесть о капитане Копейкине в пояснение догадки, что этот капитан и есть Чичиков, он до самого конца рассказа не замечает реальной несовместимости внешности Чичикова с потерявшим на войне ногу капитаном Копейкиным, что и побуждает его по обнаружении ошибки назвать себя «телятиной».
II. Соответствие данным опыта является безусловно обязательным для натуралиста. В искусстве чувство «реальности» изображаемого не всегда требует близости с изображаемой действительностью. Так, например, через всю историю живописи проходит тенденция изображать евангельские сюжеты, непременно модернизируя их сообразно вкусам того или другого народа, той или другой эпохи, и это не всегда шокирует зрителей (см. R. de la Sizeranne: «Questions d’esthetique», глава «La modernite des evangiles»).
195
III. Ясность и отчетливость в развитии научной и философской мысли всегда желательна, а неясность и смутность всегда являются недостатком в ученом исследовании. В искусстве же ясность и отчетливость образов вовсе не являются необходимым условием наивысшего эстетического эффекта — весьма часто тонкие, трудно уловимые и неопределенные переживания могут быть