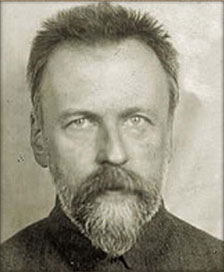моей душе, именно когда мне никто не мешает, и разрастается в моей душе, и я все дальше расширяю и проясняю все это, и произведение становится вскоре в голове уже почти готовым, так что я обозреваю его зараз в моем духе, как прекрасную картину или красивого человека, и не одно после другого, как оно должно быть впоследствии, слышу я в моем воображении, но как бы все зараз (sondern wie gleich alles zusammen). Это пир (Das ist nun ein Schmauss). Весь этот процесс (Finden und Machen) происходит во мне, как в крепком сладостном сне» («Schonstarken Traum», см. О. Jahn: W. A. Mozart, 1858, III, 424). Подобные факты наблюдаются и в научной работе. Б. Ф. Шлецер пишет о Скрябине («А. Н. Скрябин», Берлин, 1923, стр. 49): «Когда он сочинял, работа его никогда не шла в определенном направлении от начала произведения к его заключению: первоначально зафиксированные моменты являлись как бы и определяющими звуковую систему точками, оттуда он словно проводил соответствующие линии; он работал таким образом одновременно над целым произведением, строившимся сразу по всем направлениям, исходя из различных пунктов по плану, разработанному до мельчайших подробностей». В этом отношении был бы чрезвычайно интересен анализ черновых тетрадей и набросков философов, как, например, «Common place book » Беркли, «Reflexionen » Канта, «Nachlass» различных философов. В силу того же психического механизма нас иногда озаряют счастливые догадки во время чтения лекции, которые не относятся в данный момент к делу. Вот почему иногда гениальный мыслитель, отдающийся на лекциях импровизациям, может оказаться с ораторской точки зрения ниже искусного лектора, выполняющего заранее выработанный план, а между тем воспитательное значение (не говоря уже о содержательности) может оказаться в первом случае большим. Мы познакомились с описанием лекции Гегеля со слов слушавшего ее. Если сопоставить подобную лекцию с блистательными ораторскими выступлениями Ройе Коллара или Виктора Кузена, то внешние преимущества изложения у последних окажутся совершенно очевидными, но студенту на таких лекциях не удастся заглянуть в таинственную лабораторию творческого духа.
Подталкивающим импульсом к исканию новой концепции мысли является страдание, недовольство какою-нибудь привычною стороною ранее принятого мировоззрения. Это отмечают психологи, говоря о диссоциации как отправном пункте процесса; на это указывают гносеологи, например Коген, говоря о бесконечном суждении как отправном пункте
208
философского искания; на это обращают внимание и метафизики. Мис-тицист Бергсон здесь сходится с критицистом Когеном. По Бергсону, начало отрицания подобно демону Сократа, который внушал ему, чего не надо делать, — вот зарождающаяся «интуиция»: «Наперекор общепринятым идеям и как будто самоочевидным тезисам, наперекор утверждениям, признававшимся до того научными, она шепчет философу на ухо: «Невозможно!» Неприемлем схоластический аристотелизм (Малебранш), неприемлемы ни окказионализм, ни influxus physicus* (Лейбниц), неприемлемы противоречия в понятии конечности и бесконечности мира в себе (Кант), неприемлемо понимание природы как мертвого механизма (Фехнер), неприемлема гипотеза творения (Спенсер), неприемлемы искусственные условия культурной жизни (Руссо)!
Но, кроме подталкивающего импульса, в этом процессе есть и притягательный мотив — тяга к интеллектуальной гармонии, смутное прозрение в сферу нового миропонимания, более истинного и в смысле соответствия реальности (как бы мы ее ни понимали, феноменалистически или метафизически), и в смысле соответствия мыслей между собою. Философское творчество — мучительно радостный процесс! Бергсон в своем замечательно проникновенном и глубоком в психологическом отношении описании философской интуиции (хотя он и дает совершенно ложное и неубедительное метафизическое истолкование описываемым переживаниям) справедливо противопоставляет непрестанно предносящийся сознанию философа идеал миропонимания и более или менее несовершенное приближение к нему, которое он называет образом-посредником — image mediatrice. Но из этой несказанности идеала вовсе не вытекают ни скептическая резиньяция отчаяния, ни мистические порывы в «борьбе со словом» постигнуть истинно сущее каким-то интимным актом симпатического чувствования. Героические усилия творческой воли достойно вознаграждаются глубоким сознанием объективной частичной значимости философского изобретения, которое мыслитель совершенно ясно отличает от субъективной иллюзии обладания полной истиной.
Frey sein ist nichts,
Frey werden ist der Himmel** (Фихте).
XVII. Творческий волевой акт: 3) привходящие в него двигательные акты; схема сложного состава творческого волевого акта
Перейдем теперь к третьей стороне волевого акта в процессе изобретения и, в частности, философского изобретения. Процессу накопления знания в области движений соответствует накопление двигательных навыков, ведь привычка в известном смысле есть память на движения. Такие навыки должны быть целесообразно связаны между собою, таковы навыки ораторские, графические, технические, экспериментальные, художественные и др. Все они весьма ценны для философа. Умение говорить и писать литературно, владеть техникой естественно-исторического и психологического эксперимента — все это требует культуры двигательных процессов. Даже исследование по истории философии требует умения обращаться с библиографией, работать в архивах, быть знакомым
209
с каталогизацией и т. д. Проблема экономии сил рабочего тщательно разрабатывается в настоящее время. Так, например, Джильбретс занялся преобразованием способов работы у каменщиков (см. Реджинальд Таун-сенд: «Волшебство в изучении движений», пер. Копьева, 1919 г., также замечательную статью акад. В. М. Бехтерева «Личность и труд»; Научно-технический Вестник, 1920. № 1). Было бы вполне последовательно распространить проблему экономии мышечной работы и на людей духовного труда. Исследование процессов работы великих ученых и философов было бы в этом отношении весьма поучительно. Умение экономизи-ровать физические силы, составляющее секрет сноровки опытного квалифицированного рабочего, в той же мере заслуживает изучения, как ловкость, т. е. изобретательность в движениях, вызываемая внезапным изменением условий работы, так сказать моторная интуиция, или догадка. Такая двигательная приспособляемость к непредвиденным изменениям в условиях работы наблюдается даже у животных. Гаше-Супле сообщает, что в Зоопе-дическом институте в Париже проводились следующие опыты над собаками. Дрессированную собаку заставляли производить опасный прыжок через трамплин задом, причем трамплин перемещался, и собака приспособлялась к его передвижениям, бросая перед прыжком каждый раз взгляд назад, чтобы соразмерить силу прыжка с изменением расстояния. Ловкость в изменении физических условий эксперимента составляет существенную черту дарования техника и экспериментатора. Нужно заметить, что среди философов встречаются техники-изобретатели: Эмпедокл дренажем и проломом отверстия в скале, через которое дул ветер, оздоровил местность, не пригодную для жилья благодаря вредным испарениям, Паскаль изобрел счетную машину, Декарт — говорящую куклу, Спенсер — измеритель скорости движения поездов (велосиметр), Джевонс — логическую машину, Фехнер, Вундт, Челпанов — ряд приборов для психологической лаборатории. При выполнении сложного цикла движений, объединенных одною общею целью, важно исходить от целого, т. е. сообразоваться при выполнении отдельного движения с его отношением ко всей целокупности движений. По словам Гаше-Супле, можно научиться перекидывать один за другим четыре шарика одною рукою путем соображения, но чтобы проделать это с пятью шариками, надо отдаться какому-то целостному импульсу, пока рука не приноровится «сама» это производить, вмешательство умысла окажется совершенно бесполезным. Отсюда «волшебное» впечатление, производимое некоторыми фокусами жонглеров. Это мастерство в выполнении сложных двигательных актов представляет поразительную аналогию с приведенными выше фактами неожиданного появления «нужных идей» у художника или философа, проистекающее, как мы видели, от органической связи между собою отдельных моментов сложного замысла1. В научном труде это мастерство выражается в том, что работа спорится и вся объединена стремлением довести двигательные процессы до желанного конца, например осуществление философской системы в совер-
1 Вот почему заучивание сложного двигательного акта не может быть успешно достигнуто заучиванием образующих его частичных движений и их механического объединения в совокупное действие, но необходима целостная антиципация всего действия.
210
шенно законченном виде. Если мы теперь объединим теснейшим образом связанные между собою интеллектуальные, аффективные и двигательные элементы волевого акта в творческой деятельности ученого или философа, то получим следующую схему:
XVIII. Сужение сферы случайного в творческом процессе.
Корреляция четырех полей испытания. Триада мистической
психологии — интуиция, инспирация и инстинкт
Творческая воля человека находит себе наивысшее и конечное выражение в стремлении не только познать мировое единство, но и преобразить его, усовершенствовать сообразно известному понятию должного. Ницше прав, упрекая (в «Рождении трагедии») Сократа в том, что он внушил человечеству «безумную» мысль не только познать, но и исправить действительность, опираясь на знание и на законы разума. Если подлинными двигателями человеческой воли являются организуемые интеллектом страсти, то эта страсть — тяга к известному социальному идеалу — есть наряду со стремлением познать мир terminus ad quern* творческой воли, в то время как диссонанс между сущим и должным, мучительное чувство противоречий мысли, их несоответствия действительности, контрасты зла по отношению к добру, безобразия по отношению к красоте есть terminus a quo**. Если в религиозной деятельности человека, деятельности преимущественно аффективного характера, в смутной форме таились все роды человеческого творчества, то в философии они находят себе отчетливое, просветленное разумом выражение.
Разумная творческая воля человека вырастает на почве глубоких и сильных страстей. Рефлексы, подражания, трудовые процессы, игра, пробование на ощупь, инстинктивные стремления — вот тот как будто хаотический и беспорядочный материал, из которого загадочно вырастает творчество. Мы уже видели, что первые проявления изобретательности зарождаются на почве рефлекторных движений и подражания, с одной стороны, и уклонения от подражательности — с другой (см. II главу I тома). Эти уклонения выражаются в ряде пробований, руководимых контролем интеллекта (try-try-try reaction). Как в мире животных, так и у человека пробования, действия на ощупь, испытания играют большую роль. Загадочность изобретения подобна загадочности возник-
211
новения целесообразного результата из случайного исчерпывания всевозможных комбинаций. Правда, в процессе творчества человеческого имеется налицо разумная деятельность, регулирующая этот процесс, но и она сама постепенно развилась из простейших интеллектуальных актов отожествления и различения. Стихийное творчество в природе, породившее целесообразные явления, и творчество человека, во всяком случае, представляют замечательную аналогию. Через всю историю философии проходит антиномия разумного, необходимого и случайного. «Вечность — дитя, играющее пешками в войну», — говорил Гераклит. Однажды Кеплер обедал со своей женой и вдруг обратился к ней с вопросом: «Скажи мне, Варвара, что, если бы в мировом пространстве летало множество капель масла, уксуса, частичек соли, перца и сахару, кусочки салата и салатники, как ты думаешь, мог бы как-нибудь при их случайном столкновении образоваться вот этот, стоящий перед нами в салатнике, приготовленный тобою салат?» «Наверное, не такой хороший и не так хорошо заправленный», — ответила жена. В «Салоне атеистов» в XVIII в. однажды обсуждался вопрос, мог ли целесообразно устроенный мир возникнуть случайно. Тогда аббат Галлиани обратился к присутствующим и сказал им: «Представьте себе, что, играя с вами в кости, кто-нибудь подряд десять раз выбрасывает шестерку». Кто-то перебил его: «Это будет значить, что кости фальшивые!» «Я с вами согласен, — отвечал аббат, — и думаю, что там высоко над нами живет Великий Шулер, и кости природы фальшивые («les des de la nature sont pipes»). Образ мировой игры, где