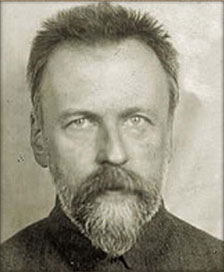(идея) — causa finalis.
Шопенгауэр пользуется однородным principio divisionis** и для теории познания, и для метафизики, и для классификации наук.
Особенно интересно применение Кантом его таблицы категорий для всей его философской системы — для гносеологии, этики, эстетики, философии природы и права. Это применение лучше всего иллюстрировать в графической схеме.
Представим себе маленький неподвижный кружок, разделенный на секторы в 72°. Один из секторов разделен на 4 части, из которых каждая обозначает одну из 4-х категорий рассудка. Вокруг этого кружка может свободно вращаться концентрически другой, разделенный внутренним кругом на две части. Оба эти круга разделены также на пять частей; на втором, считая от центра, написаны названия важнейших отделов системы Канта, на соответствующих им частях внешнего третьего круга, вращающегося вместе со вторым, написаны соответствующие данному отделу системы основоположений чистого рассудка. Тогда, поворачивая два внешних круга так, чтобы против сектора с 4 группами категорий приходился сектор, скажем, соответствующий этике, мы как бы символизируем акт мысли, который выражается в том, что применение функций рассудка к материалу данной философской сферы дает на третьем периферическом круге соответствующие основоположения рассудка в области моральной философии.
305
Кант знал о великом искусстве Раймунда Луллия (о нем будет речь в следующей главе), но отзывался о нем так же пренебрежительно, как и Бэкон. Оно и понятно: Раймунд Луллий мечтал открыть новые истины механическим созданием аналитических суждений, Кант же имеет в виду органический процесс образования новых синтезов мысли творческой активностью духа, и лишь вспомогательной ариадниной нитью здесь должна служить таблица категорий. Речь, конечно, идет не о способе открытия новых истин, а об их симметричном, стройном, мнемонически удобном способе разработки изложения в системе, б) Техническая отделка научного исследования или философской системы, ее выполнение на бумаге, в котором проявляется большое количество прямого ручного труда, требует большой затраты физических и технических усилий. Гельмгольц пишет: «Письменная обработка научного исследования большею частью представляет тяжелый труд, по крайней мере мне она представлялась в высшей степени тяжелой. Многие части моих статей я переписывал от четырех до шести раз, часто менял распределение материала и плана целого, прежде чем остаться несколько довольным. Но такая тщательная обработка представляет большой выигрыш и для автора. Она побуждает его к самой тонкой поверке каждого предложения и вывода… Я никогда не считал исследование готовым до тех пор, пока оно не лежало передо мною в совершенном и без логических пробелов письменном изложении» (Оствальд. «Г. Гельмгольц», 1919, стр. 55-56).
Пример Гельмгольца типичен, и тем не менее мы знаем случаи (например, творчество Канта, Конта, Дюринга), когда философское произведение обдумывалось многие, многие годы, а писалось прямо набело (Конт) или в крайне малый срок и, следовательно, без особенно больших поправок и переделок. Причина такой экономии писания заключается именно в продолжительном инкубационном периоде созревания и вынашивания, в органичности подготовительного процесса, в) В живом чувстве целостной концепции, при котором она до начала писания доведена до наивысшей степени ясности и отчетливости. В противном случае происходит шатание философа от одной концепции мира к другой без какого-либо прочного однозначного результата, как это мы наблюдаем, например, у Шеллинга с его пятью различными системами, из которых ни одну нельзя признать окончательной. Чувство целостной концепции чрезвычайно обманчиво, и когда сама концепция неясна и остается такой же неясной на протяжении дальнейшей работы, то в результате получается неудачное изобретение. До какой степени может быть обманчиво это чувство целостной концепции, можно видеть и на здоровых неудачниках в изобретении, и на больных, страдающих mania inventoria*. Камера № 23 в Государственной академии наук представляет богатейший материал для психиатрического и философского исследования иллюзий творчества. В тех случаях, когда мы имеем дело с явным случаем глубокого психического расстройства, чувство целостной концепции, несмотря на свою иллюзорность, является навязчивым, и сама «концепция» превращается в неустранимую idee fixe, против которой бессильны критика или экспериментальная проверка. Льюис рассказывает об одном молодом парижанине, который вообразил, что нашел
306
perpetuum mobile. Он заявил родным, что готов признать себя ошибавшимся, если сам Араго опровергнет его. Воспользовавшись этим заявлением, родители, надеясь излечить юношу, пригласили к себе на квартиру Араго, который охотно согласился прийти и поспорить с юношей и пришел, да еще в сообществе с другою знаменитостью. Ученые в несколько минут доказали юноше, что он грубо ошибается. Он был так поражен, что заплакал и признал себя побежденным. Но как только Араго и его спутник ушли, весьма довольные успешностью «лечения», молодой человек, поразмыслив, стал категорически уверять, что его не поняли и что он «в сущности» прав. Для нормального изобретателя осторожное отношение к субъективному чувству целостной концепции и готовность всегда подвергнуть его строгой проверке может быть существенным средством для экономии творческих сил. Не надо торопиться «увенчивать здание, не посмотревши, — как говорит Кант, — хорошо ли заложен фундамент». Достоевский в «Хозяйке» дает гениальное описание иллюзорного чувства целостной концепции в научном творчестве: «Первый восторг, первый жар, первая горячка художника… он сам создавал себе систему, она сама вынашивалась в нем годами, и в душе его мало-помалу восставал темный и неясный, но как-то дивно отрадный образ идеи, воплощенный в новую определенную форму, и эта форма просилась из души его, терзала эту душу, но еще робко чувствовал истинность и самобытность ее, творчество уже оказывалось сильнее его, оно формировалось и крепло. Но срок воплощения создания был еще далек, может быть, очень далек, может быть, совсем невозможен» (Соч., т. III, стр. 369). «Может быть, ему суждено было быть художником в науке. По крайней мере, он прежде сам верил в это» (ib., 371). Однако это оказалось иллюзией! А вот подобная же иллюзия чувства целостной концепции у музыканта: «А Лемм долго сидел на кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывало сладкая мелодия собиралась посетить его; он уже горел и волновался, он уже чувствовал истину и сладость ее приближения… но он не дождался ее» (Тургенев. Сочинения, т. III, стр. 247-248). Здесь иллюзия даже не успела вполне появиться. «Не поэт и не музыкант!» — прошептал он наконец. И усталая голова его тяжело опустилась на подушку» (ib., 248).
При иллюзорном чувстве целостной концепции в научном и философском творчестве возможна субъективная уверенность и переживание очевидности того, что догадка истинна. А между тем она может быть не только лишена всякой объективной достоверности, но даже заключать в себе логическое противоречие. Так, например, Фермат был уверен, что он обладает общим доказательством того, что уравнение хn + yn = zn невозможно для х, у и z целых чисел и n > 2. Однако, по-видимому, ему это только казалось, так как он никогда не дал подобного общего решения проблемы. А между тем, быть может, такое общее решение и невозможно, и кто-нибудь даст точное доказательство, что оно невозможно. Иллюзия мыслимости логически невозможного в научных догадках та же, как и вообще в том случае, когда мы якобы мыслим логическую нелепость. Акты нечувственного мышления здесь подмениваются связанною с ними ассоциативною цепью образов или слов, а конечный результат окрашивается субъективной уверенностью в его
307
правильности без попыток реализовать в сознании синтезирование чистых актов мысли. Нелепости же, как таковой, мы никогда не мыслим. Вот интересный сон Дельбёфа, который может служить прекрасной иллюстрацией только что сказанному. «Однажды ночью мне приснилось, что я выпил кружку пива, сидя в немецкой Bierhalle. Нужно было заплатить 37 1/2 сантима. Эта сумма лишь на первый взгляд производит странное впечатление — это стоимость на французские деньги 30 пфеннигов или 0,3 марки… Я подхожу к прилавку и кладу на него сначала монету в 20 сантимов, а потом другую в 10 сантимов. Женщина за прилавком недоумевает, находит сумму неточною и делает мне замечание. Я пробую ее убедить, но мои доводы оказываются безуспешными: женщина упорствует в своем заблуждении. К нам подходят лакеи и берут мою сторону; женщина продолжает упорствовать в своем заблуждении. Посетители ресторана вмешиваются в спор и также указывают ей на ошибку. Пораженная, ошеломленная, она наконец уступает мне, и я выхожу с сознанием правоты, со спокойною совестью, но несколько пораженный странной аберрацией ума у буфетчицы, которая не может понять, что 20 + половина двадцати = 37 1/2». Дельбёф указывает, что в данном случае проблеск разума не покидал его — он проявился в удивлении буфетчицы перед нелепостью, на буфетчицу были перенесены спящим некоторые элементы собственного сознания — процесс, который Дельбёф называет «altruisation du moi» (см. J. Delboeuf: «Le sommeil et les reves», 1895, p. 52). Подробности по этому поводу см. в моей книге «Законы мышления и формы познания», 1906, стр. 216.
На смешении субъективного чувства очевидности с объективной достоверностью основаны иллюзии догматического идеализма, солипсизма и мистицизма. До какой степени может быть интенсивным чувство очевидности, это можно видеть из наблюдений над лицами, принимавшими известные дозы ядовитых веществ. Ястров (Jastrow) в книге «La subconscience» (1908, стр. 176-179) сообщает весьма интересные показания. Действия закиси азота Гумфри Дэви описал в 1800 г. следующим образом: «Ничего не существует, кроме мысли, вселенная состоит из чувственных впечатлений (impressions), идей, удовольствий и страданий». Влияние хлороформа проявляется в такой форме: «Мною овладела платоновская идея, что материя лишь феномен, а истинно реальным субстратом ее является духовная субстанция материи». Рамзей пишет: «Я проникся убеждением, что состояние, в которое я впал, есть истинная реальность, что я постиг тайну моего духа, а через нее и тайну вселенной… Фактом, наиболее поразившим меня, было то, что я существовал сам по себе, а пространство и время являлись иллюзиями. Вот оно — подлинное Ego, на его периферии происходили волнообразные колебания — это были события, они постепенно прекращались, как на поверхности пруда». Прием закиси азота, по словам Джэмса, вызывает яркое чувство метафизического просветления. Истина обнажается перед вами до своих самых сокровенных глубин, чувствуешь себя почти ослепленным ее очевидностью. Дух постигает все логические отношения бытия с такою иллюзорною мгновенностью и утонченностью, каких не переживает в нормальном состоянии; только с прекращением экзальтации внутреннее прозрение исчезает, и несколько слов, бессвязных
308
выражении, произнесенных нами, делаются похожими на снежную вершину, превращающуюся в труп в момент заката солнца». При этом переживается иллюзия примирения всех противоречий в высшем синтезе мысли, между тем как фразы, которые произносил в этом состоянии Джэмс и которые были записаны, являются чистейшей бессмыслицей.
Творческая воля человека, разумная, гармоничная и добрая, есть самая прекрасная вещь на свете, какую мы знаем. Она — единственная надежная опора для человечества в его непрестанной борьбе против трагического начала жизни