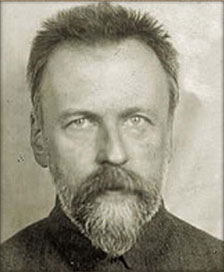без оснований считал первым опытом введения в историю философии, хотя попытку написать «введение в историю философии» он предпринял еще в курсе лекций, прочитанных в Петербургском университете в 1897-1898 гг. В последующие годы, занимаясь философской теорией, Лапшин много внимания уделял также истории философии.
Уже в первых своих работах Лапшин акцентировал внимание на проблеме негативного влияния «эмоций» на теоретическое мышление. Речь шла о психологических, моральных, религиозных, практических и иных мотивах, которые побуждают того или иного философа держаться за свои взгляды, независимо от того, насколько эти взгляды представляются ему истинными. Лапшин признавал, что эту тему подсказала ему книга Вальдштейна «Баланс эмоций и интеллекта», вышедшая в Лондоне в 1878 г., и он решил развить ее, усмотрев именно в истории философии ключ к ответу на вопрос, как избежать негативного влияния «эмоций» на теоретическое мышление. «Мы должны располагать, — доказывал он, — широким историко-философским образованием. Широкое историко-философское образование содействует развитию привычки становиться на чужие точки зрения, а эта привычка содействует диссоциации между определенными эмоциями и теоретическими принципами». «История философии сообщает не только широту нашим воззрениям, но нейтрализует влияние эмоций в качестве «уклонителей нормальной мысли»… Вдумчивое изучение истории философии служит коррективом про-
348
тив эмоций в мышлении»1. В книге «Философия изобретения и изобретение в философии», рассматриваемой именно как введение в историю философии, Лапшин развил эти свои исходные теоретические установки.
Свою задачу Лапшин видел в том, чтобы исследовать собственно творческую деятельность человека, реконструировать творческий процесс в науках и философии в его типических формах. При этом он стремился исследовать природу творчества с аксиологической, оценочной, точки зрения: его интересовали не результаты творческой работы, как таковые, а именно процесс открытия, который он назвал (правда, не очень удачно) «изобретением мысли», «конструкцией нового научного понятия».
В предисловии к книге Лапшин выражал надежду, что «изучение научного, технического и философского творчества может оказывать косвенным образом полезное влияние на самый процесс изобретения». В конце же второго тома автор неожиданно высказал сомнение в полезности изучения творчества: «Научное постижение творческого процесса в науке губительно вредно для самого ученого, и чем вернее психологический и философский анализ охватывает основные черты процесса, тем хуже будет воздействие подобных знаний на самочувствие ученого. Может быть, и для ученого в данном случае «в глубоком знании счастья нет».
Думается, что в первом случае Лапшин был более прав: проведенное им изучение механизма творчества помогает осмыслить не только то, «как это происходит», но и то, «как это нужно делать».
Автор использует разные понятия, с помощью которых он исследует сам механизм творчества, условия, влияющие на процесс творчества, на творческие способности личности, ее творческую продуктивность и т. д. («культура аффективно-волевой стороны творческой личности», ее «комбинационное поле» и др.); в основу способности к творчеству, к «изобретательности» он кладет «комбинационный дар» личности, богатство, подвижность и гармоническую организованность разрозненных рядов его мыслей и образов. В центре его внимания оказываются многочисленные и самые разнообразные психологические и социологические факторы, так или иначе обусловливающие, позитивно или негативно влияющие на формирование личности, процесс творчества и его результативность.
Лапшин обращается к спорной в конце XIX — начале XX в. проблеме влияния наследственности и социальной среды, в частности воспитания, на формирование творческой личности, к вопросу о том, является ли гениальное «изобретение» (открытие) продуктом благоприятного стечения социальных условий или оно есть результат наследственности.
По его мнению, крупное дарование, проявившее особую творческую продуктивность, способность к открытиям («изобретениям»), может представлять собой сочетание различных дарований, свойственных его предкам. Так, по его словам, один из предков Бетховена мог обладать тонким слухом, другой — исключительной музыкальной памятью и т. д.
1 Лапшин И. О трусости в мышлении. Приложение I к его книге «Законы мышления и формы познания». Спб., 1906. С. 318, 319.
349
«Комбинационное поле» творческой личности, ее возможности, по Лапшину, расширяет специфическая наследственность, обусловленная удачным смешением различных рас, народов, племен и сословий. Лапшин отрицал какие-либо исключительные творческие способности у представителей отдельных наций, причислявшихся к народам якобы особо одаренным. Он — противник национализма во всех его проявлениях: критиковал Канта, отказывавшего русским в творческой «изобретательности», Фихте, ставившего немцев превыше всех народов по одаренности, Гегеля, признававшего только две философии — греческую и германскую, Дюринга, который смотрел на славян и евреев как на расы низшего порядка.
У «комбинационного поля» личности, по Лапшину, есть также важные социологические предпосылки. Он соглашался с Гельвецием, который подчеркивал огромное значение социальных условий в научном творчестве.
В понятие «социальные условия» Лапшин включает географическую среду и экономический фактор. Так, с его точки зрения, регионы с однородным населением менее благоприятны для пробуждения творческой деятельности, чем портовые города: в последних жили и творили, например, Кант, Шопенгауэр, Конт. Путешествия значительно расширили кругозор многих древнегреческих философов, Декарта, Локка, Юма, Шопенгауэра, Ницше.
В книге университетского «аполитичного» философа Лапшина несколько неожиданно оказываются положения, вполне соответствующие принципам «классового подхода». Он высказывал сожаление, что «еще не существует работы, которая поставила бы своей задачей определить общественное и классовое происхождение философов»1. Только счастливая случайность, считает Лапшин, вывела «в люди» некоторых мыслителей из непривилегированных семей (Дж. Бруно был сыном солдата, В. Кузен — угольщика, Дж. Милль — сапожника, Фихте — тесемоч-ника).
К числу важных, но неразработанных Лапшин отнес вопрос о роли экономического фактора в процессе создания философских систем. В то же время он отвергал вульгарный социологизм. Он осмеял, например, попытку немецкой социал-демократической газеты «Neue Zeit» объяснить «философию бессознательного» Гартманна тем, что буржуазия начинает-де терять свое сознание. И все-таки односторонние концепции мира Лапшин стремился объяснить их обусловленностью не только познавательными и не только психологическими, но и социальными причинами.
Общий культурный и философский уровень эпохи, по Лапшину, — еще один сильный фактор, влияющий на формирование творческой личности. Так, на творческие возможности личности оказывает влияние принадлежность к определенной философской школе: у Сократа учился Платон, у Платона — Аристотель, у Сен-Симона — Конт и т. д. Встречаются, однако, и самоучки (Лейбниц). В число «факторов влияния» Лапшин включал «круг чтения» той или иной выдающейся личнос-
1 Наст. изд. С. 20.
350
ти. Существенным стимулом к творчеству он считал даже признание со стороны образованных людей, подготовленных к пониманию новых идей.
Но больше всего в книге Лапшин уделяет внимание анализу психологических факторов, влияющих на формирование творческой личности, процесс творчества и его результаты. Он тщательно исследует процесс пробуждения и развития творческих способностей индивидов, появление у них склонности к логическому анализу, способности наблюдать, запоминать, увлекаться какими-то явлениями, зарождение научных интересов. Автор показывает роль творческой, а не исключительной (механической) памяти, воображения, фантазии, творческой мысли и воли, дара перевоплощения, плюсы и минусы сомнения и скептицизма в процессе творчества. А вот существование «творческой интуиции» как особого творческого акта Лапшин отрицал. По его мнению, нет такого интуитивного творческого акта, «который не разлагался бы без остатка на переживания чуткости (т. е. памяти на чувства ценности или значимости известных образов, мыслей или движений), проницательности (т. е. умения пользоваться этими чувствами в комбинационной работе воображения, мышления и двигательных процессов) и чувства целостной концепции»1.
В процесс творчества, считал Лапшин, могут вмешиваться негативные причины психофизического характера (неудовлетворительность в развитии какой-либо из наклонностей, болезнь, влияние возраста и т. п.), а также причины социологические (давление церковно-религиоз-ных традиций, политический гнет, общественные предрассудки, неблагоприятные экономические условия).
В начале XX столетия, когда в России широкое распространение получила религиозно-философская литература, в которой нередко эклектически смешивались богословские и философские понятия, весьма актуальными были высказывания Лапшина о принципиальных различиях между богословскими и философскими «изобретениями».
Религиозное творчество, считал Лапшин, носит глубоко эмоциональный характер, основатели мировых религий были не ученые, не систематизаторы, а творцы новых религиозных ценностей. Поэтому история философии включает имена Сократа, Платона, Канта, но в ней нет места для Моисея, Магомета или Иисуса. «Богословская изобретательность заключается в искусстве упорядочения и систематизации в форме известной догматики религиозного учения, которому положил начало основатель известной религии. В богословской мысли есть своя внутренняя логика и свое диалектическое развитие, но для разработки религиозного учения самою его природою положены известные грани — чудо, тайна и авторитет. Всякий раз, когда богословское мышление близко подходит к этим граням, оно неизбежно умышленно или чаще неумышленно подменяет логику разума логикой чувств»2.
Лапшин решительно возражал против смешения философского и художественного творчества. Он прекрасно знал, что в XIX в. между
1 Наст. изд. С. 219. 2 Там же. С. 9.
351
искусством и философией возникли отношения взаимопроникновения: «С одной стороны, величайшие поэты, художники и музыканты сознательно вносят философский элемент в свое творчество (Бетховен, Вагнер, Гёте, Бёклин и т. п.). С другой стороны, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр, Либманн, Фейербах, Штраус, Гюйо, Соловьев и Ницше обнаруживают поэтическое дарование, которое у некоторых достигает значительной силы»1.
Но, допуская особое значение художественных моментов в философском творчестве, Лапшин тем не менее утверждал, что «философия-искусство» не должно упразднять «философию-науку». Он ориентировался на строго научную доказательность, согласие с данными опыта, противопоставляя такую философию, в частности, «поэтической» натурфилософии романтиков. «Для философов, чрезмерно тяготеющих к не свойственному им роду творчества — поэтическому, есть опасность превратить философию в «госпиталь для неудавшихся поэтов», по меткому выражению Новалиса»2.
В произведениях философов, являвшихся одновременно художественно одаренными натурами (Платон, Ницше и др.), Лапшин призывал отделять эстетическую оболочку от имеющего научное значение ядра.
Специфика «изобретательности» в философии, т. е. собственно философского творчества, — центральная проблема рассматриваемого труда Лапшина. «Философское изобретение», по Лапшину, — поздний плод человеческой культуры. Исходным пунктом для философской изобретательности, ее источником является не религиозный инстинкт (как у Ре-нана), не метафизическая потребность (как у Шопенгауэра), а философская любознательность, «великая философская страсть удивления человека перед самым фактом его бытия, перед загадками познания и деятельности, перед вопросом о сущности мира и цели бытия…»3. Философское творчество — это «мучительно-радостный процесс».
Изречения, пословицы, загадки — весь этот «философский фольклор», по Лапшину, представлял зачатки литературных форм, в которых первоначально проявляется философская изобретательность. Афоризм — простейшая форма выражения философской мысли. В образе, метафоре предвосхищается философская идея. Диалог представляет собой вторую, а система — третью форму философского изобретения. «Гносеологическое изобретение» — это освещение или уяснение какой-нибудь отдельной категории: идея изменения у Гераклита, идея постоянства у элеатов, таблицы категорий у Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, теории доказательства Аристотеля и т. д.
С логической же точки зрения в философии изобретения Лапшин выделяет «рационализм, эмпиризм и мистицизм», которые соответствуют «трем категориям модальности», т. е. суждениям в зависимости от того, как они выражают необходимость, действительность или возможность какого-либо явления. Во-первых, это необходимый, «аподиктичес-
1 Лапшин И. Законы мышления и формы познания. С. 209.
2 Там же. С. 210.
3 Наст. изд. С. 33.
352