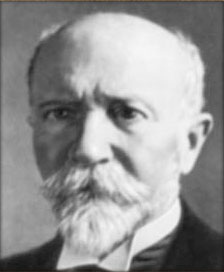внутренними определениями нашей души в том или ином отношении времени. Каким же образом мы приходим к тому, что придаем этим представлениям объект, к их субъективной реальности как модификаций еще какую-то объективную реальность? Объективное значение не может состоять в отношении к другому представлению (о том, что можно было бы назвать представлением о предмете), так как тогда снова является на сцену вопрос, как в свою очередь это представление выходит из самого себя и приобретает еще объективное значение, кроме субъективного, которое присуще ему как определению душевного состояния»121.
Итак, под объективностью знания Кант разумеет отнесенность представления к чему-то такому, что кажется находящимся за пределами субъекта как явления, т.е. такой характер представления, когда в нем чувствуется транссубъективная принудительность, хотя бы она и создавалась только закономерностью самого процесса познания. Вот почему мы говорим, что проблема трансцендентальной предметности чересчур сближается у Канта с проблемой транссубъективной предметности, т.е. с вопросом, как возможно, чтобы представления относились мною к чему-то, что не есть я? А так как проблема трансцендентальной предметности отождествляется с проблемою объективности и, следовательно, с проблемою всеобщности и необходимости суждений, то ясно, что здесь получается огромное накопление проблем и общее решение их должно заключать в себе пробелы. Мы можем даже предсказать, что одна из таких проблем, именно вопрос о транссубъективности внешнего опыта, совсем не будет решена. В самом деле, Кант считает все переживания целиком душевными определениями познающего субъекта; отсюда не составляют исключения также и все элементы предметности, хотя бы она была трансцендентальною или транссубъективною122, при этих условиях решить вопрос о транссубъективности внешнего опыта — это значит показать, каким образом «мои» представления могут сложиться так, чтобы казалось, что они заключают в себе транссубъективный предмет, хотя на самом деле они не содержат в себе ничего транссубъективного. Из сказанного в первых трех главах ясно, что этой цели достигнуть нельзя и, следовательно, кантовское решение проблемы объективности окажется совершенно негодным для объяснения внешнего опыта, хотя в своем исследовании Кант имел в виду именно внешний опыт.
В самом деле, согласно учению Канта, наши суждения объективны постольку, поскольку в них есть априорный синтез: априорный синтез обусловлен самою природою мышления, без этого синтеза невозможно единство опыта, а следовательно, и единство самосознания; а следовательно, и самое существование самосознания; итак, априорный синтез есть нечто необходимое: пока есть опыт, и пока есть самосознание, есть и априорный синтез. Следовательно, всматриваясь в представления, подчиненные априорному синтезу, и строя по поводу них суждения, мы неизбежно чувствуем необходимость связей в них и сознаем отнесенность наших суждений к одному единому предмету. Как ни остроумны построения Канта, они пригодны разве только для объяснения объективности внутреннего опыта, а для объяснения объективности внешнего опыта они вовсе не годятся. Объективность внешнего опыта состоит в живом сознании зависимости акта суждения от вещи, не принадлежащей к составу моей душевной жизни, причем самое содержание объективного представления (напр., представления дерева, когда я смотрю на лес) чувствуется мне как независимая от меня вещь, а не как что-то только относящееся к вещи. В построениях Канта нет и намека на объяснение этой транссубъективности: по его собственному учению ее нет в ощущениях, ее нет также и в априорных синтезах, так как они суть продукты самодеятельности «моего» мышления, она не может возникнуть также из комбинации ощущений и априорных синтезов, так как непонятно, каким образом «моя» деятельность упорядочения «моих» ощущений может показаться мне транссубьективною. Правда, историки и сторонники Канта иногда аргументируют в пользу Канта следующим образом: априорный синтез есть синтез необходимый, подчиненные ему ощущения образуют комплекс, структура которого чувствуется как нечто независящее от моего произвола, вынуждающее меня признать ее наличность, и это-то обстоятельство придает такому комплексу видимость транссубъективности. Однако этот аргумент несостоятелен: в сфере внутреннего опыта на каждом шагу встречается такая принудительность, и тем не менее она не сопровождается сознанием транссубъективности. Положим, мы пережили ряд каких-либо душевных состояний, напр., мы фантазировали и намеренно старались скомбинировать образ подводного дворца морского царя из таких элементов, как хрустальные стены, звезды на потолке, морские водоросли и т.п.; если вслед за этим мы хотим анализировать этот комплекс переживаний, поскольку в нем «мои» деятельности активного припоминания и творческого комбинирования следовали друг за другом, и хотим высказать ряд суждений об его свойствах с этой стороны, то он со всеми своими элементами будет стоять в нашей памяти как единый предмет, независимый от нашего произвола, вынуждающий признать в себе такую-то, а не иную структуру деятельностей и тем не менее вовсе не транссубъективный: обсуждаемые мною мои деятельности не чувствуются как не-я, не стоят передо мною так, как наблюдаемое или даже вспоминаемое дерево123.
Если нам скажут, что такие суждения не относятся к сфере научного опыта, т.е. не заключают в себе необходимости и всеобщности в том смысле, как положения физики, а потому не удивительно, что предмет их не транссубъективен, возражение не попадет в цель. Во-первых, еще вопрос, правда ли, будто суждения о единичных переживаниях внутреннего опыта совершенно лишены характера необходимости, а, во-вторых, и это самое главное, нам даже и не нужно поднимать этой проблемы: мы говорим только о том, что в акте суждения независимость обсуждаемого переживания от моего произвола и принуждение, исходящее от переживания, не придают еще ему характера транссубъективности.
Впрочем, у защитников Канта есть еще одна модификация этого же самого аргумента. Они говорят, что априорный синтез есть условие возможности не только предметов опыта, но даже самосознания. Следовательно, это синтез бессознательный, а потому, хотя он и производится самодеятельностью познавательной способности, продукты его, отлившиеся в необходимую и неизменную форму, должны представляться возникшему сознанию как что-то транссубъективное, как самодеятельно существующая природа. Основания для такого решения проблемы заключаются между прочим в учении Канта о продуктивном воображении как бессознательном трансцендентальном синтезе, который создает образы вещей, выражаемые в свою очередь в понятиях рассудком124. В основе этого аргумента лежит предположение, что продукты бессознательной законообразной деятельности субъекта, восходя в сознание того же субъекта, представляются ему как нечто не им созданное, а данное ему извне. Однако это предположение, а следовательно и аргументация, основанная на нем, опровергается фактами внутреннего опыта. Иногда мы делаем что-нибудь, как говорится, машинально, напр., сидя у стола с разными сластями и оживленно беседуя, берем время от времени со стола конфеты, накладываем на блюдечко варенье и т.п. и совершенно не замечаем этих деятельностей; но стоит нам только обратить внимание на результаты этого хозяйничанья, иногда удивительные, напр., когда оказывается, что мы забрали чрезмерное количество конфет и тотчас же, воспроизводя эти деятельности по памяти, мы признаем, что они были «моими» в полном смысле этого слова; мы их приписываем себе не на основании косвенных соображений, напр., не потому, что у нас сохранилось в памяти зрительное или моторное воспоминание о моих руках, берущих конфеты, а непосредственно на основании усмотрения существовавших во мне, но не опознанных раньше хотений и действований125. Если нам возразят, что этот пример не годится, потому что в нем речь идет об эмпирическом синтезе, возникающем на почве уже существующего сознания, а Кант говорит о трансцендентальном синтезе, впервые создающем сознание, то мы опять ответим, что этим различением не уничтожается целиком значение нашего примера: он во всяком случае показывает, что, насколько свидетельствует опыт, бессознательность «моей» деятельности не служит еще достаточным основанием к тому, чтобы она показалась мне при опознании ее транссубъективною. Следовательно, наши противники, устанавливая свою гипотезу, говорят не только о чем-то выходящем за пределы всякого опыта, но еще и о чем-то не аналогичном никакому опыту. Им остается только прибегнуть к последнему аргументу, считавшемуся самым сильным у сторонников критического гносеологического метода исследования, именно утверждать, что отвергающие их гипотезу отвергают единственное возможное условие самосознания: в самом деле, самосознание возможно только в том случае, если объект противополагается субъекту, мир не-я противополагается миру я, и появиться этот объект ниоткуда не может, кроме как из досознательных синтезов самого субъекта. Однако эта попытка спастись в сферу «единственно возможных условий» принадлежит к числу плохих спекуляций: если пораскинуть умом, то указываемое гипотезою условие окажется мнимо единственным; один из возможных выходов указан выше, он дан в учении о непосредственном восприятии транссубъективного мира.
Возможна еще одна попытка настаивать на том, что теория знания Канта удачно справилась с элементом транссубъективности внешнего опыта. Можно утверждать, что, по Канту, к сфере не-я относятся те образы, которые отливаются в пространственно-временные формы и подчинены априорным синтезам, те же образы, которые отливаются только во временные формы, а также те образы, которые обладают пространственно-временными формами, но не подчинены априорным синтезам, составляют внутренний мир. Сам Кант говорит, что эмпирический предмет «называется внешним, когда он представляется в пространстве, и внутренним, когда он представляется только во временных отношениях»126.
Это выход из затруднения очень удачный: пространственный образ в самом деле всегда заключает в себе нечто транссубъективное. Поэтому показать ошибку, кроющуюся в этих рассуждениях, можно только доказав, что кантианец должен разуметь под представлением пространства не совсем то, что разумеем под ним мы, когда говорим, что в пространстве есть нечто транссубъективное, принудительно навязывавщееся извне. К счастью, материалы для этого доказательства найти нетрудно. Согласно учению Канта, эмпирический пространственный предмет, стоящий передо мною в воображении, не заключает в себе ничего транссубъективного и объективного: он может переживаться и сознаваться целиком как нечто субъективное, как «мое» душевное состояние. Пространство есть «субъективное внешнее представление», как выразился Коген в своем сочинении Kants Theorie der Erfahrung127. Эмпирические «предметы, говорит Кант, — могут являться, не имея необходимого отношения к функциям рассудка»; «разнообразное содержание представления может быть дано в созерцании, которое только чувственно, т.е. не заключает в себе ничего, кроме восприимчивости»128. Такое восприятие не имеет объективного значения, т.е. не относится к предмету, целиком переживается как внутреннее душевное состояние. Это прямо сказано у Канта следующими словами: «если из эмпирического познания я исключаю всякое мышление (посредством категорий), то у меня не остается никакого познания о каком бы то ни было предмете, ибо через одно только созерцание ничего не мыслится, и присутствие этого воздействия на чувственность во мне не создает еще никакого отношения подобного представления к какому-либо объекту»129. Каким же образом из этого представления может получиться транссубъективная вещь, т.е. что-то такое, что не целиком относится мною к моему я и в самом деле чувствуется как самостоятельное бытие? Очевидно, для кантианцев остается только один выход: ссылка на априорные синтезы, на то, что присоединение их к пространственным формам превращает субъективные картины моего