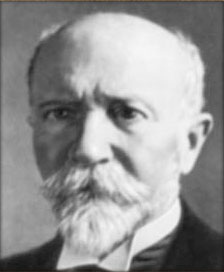том, чтобы освобождаться от неполноты и односторонности каждого отдельного кодекса, включая в состав поведения ценности, признанные уже в других кодексах. Особенно простой случай представляет собою та неполнота кодекса, которая состоит в применении некоторых нравственных правил поведения только определенному кругу лиц, например к членам своей семьи, своего народа и т. д., при этом задача нравственного развития состоит а расширении круга существ, благожелательное отношение к которым считается обязательным.
Более трудный объект исследования суть кодексы морали, несовершенство которых состоит не только в их неполноте, но и в противоречии идеалу абсолютного совершенства. Однако и они при внимательном рассмотрении оказываются только извилистыми путями, на которых уклонения в сторону обусловлены особыми временными обстоятельствами. Узость сознания ценностей при условиях, настоятельно сосредоточивающих внимание на какой- либо ценности, приводит к преувеличению ее значения и, таким образом, к искажению идеала поведения. Так, у примитивного
народа, окруженного воинственными племенами и не имеющего развитых сношений с ними, каждый иноплеменник рассматривается как враг и храбрость, доказанная множеством снятых скальпов, ценится особенно высоко. Сосредоточение всех душевных сил, весьма ограниченных к тому же, на принесении пользы твоему племени, естественно, сопутствуется слепотою к ценности жизни других племен, а не сознательным отрицанием ее, как это видно, например, из правил гостеприимства, выработанных даже у самых воинственных племен. У высококультурного народа, на- пример греков, создающего великие художественные произведения, развивающего сложную интеллектуальную и общественную жизнь, при столкновении с варварами возникает убеждение, что он имеет право использовать их в качестве рабов, как средства для пышного расцвета своей культуры. Весь строй жизни древних греков был так тесно связан с институтом рабовладения, что внезапная отмена его повела бы к разрушению многих великих духовных ценностей, которыми жили не только греки, но пользуемся и мы до сих пор. Неудивительно поэтому, что Аристотель, философ, обладающий высоким кругозором, не считает возможным отказаться от этого института и старается найти доводы, оправдывающие его. Мы видели, однако, что выработанное им понятие «раба по природе» в действительности не оправдывает юридического рабства. Поскольку Аристотель упоминает о случаях несправедливой войны, о возможности рабства благородных людей, о том, что люди, стоящие на низком нравственном уровне, во всех положениях жизни суть рабы, а люди духовно благородные во всяком положении внутренне не становятся рабами, сквозь эту аргументацию проглядывает у него такое же нравственное сознание, как и наше; при виде рабства совесть у него зазрит, но ум не может найти точной формулы, определяющей отношение к этому учреждению. Думается, она была бы найдена, если бы Аристотель откровенно признал, что рабовладение есть зло, но что внезапная отмена его была бы еще большим злом и потому приходится временно терпеть его, как из двух зол меньшее. Широкое распространение такого учения повело бы к смягчению положения рабов, к защите их законом от произвола хозяев и, наконец, к полной отмене рабовладения.
Правильный выбор линии поведения определяется не только рангом ценностей, подлежащих реализации, но еще и силою ценностей. Учение о различии ранга и силы ценностей разработано Н. Гартманом в его «Этике» (544–563). Оно состоит в указании на то, что высшие ценности зависимы от низших: например, научная деятельность, художественное творчество, героическая защита отечества на войне и т. п. зависит от телесного здоровья, питания и т. п. Ранг ценности удостоверяется заслугою при осуществлении ее (например, в случае проявления героизма) и слабостью осуждения (или даже неосуждением) при неисполнении ее. Что же касается силы ценности, она определяется тягостью зла, возникающего в случае неосуществления ее: так, недостаток
пищи может привести к болезни, даже смерти и вместе с тем к невозможности интеллектуальной деятельности, героизма и т. п.; но сохранение простой биологической жизни вовсе не есть высшее из благ (549).
Принимая во внимание это соотношение между рангом и силою ценностей, попробуем войти в обстановку жизни дикарей и понять их поведение. «Когда старик дикарь начинает чувствовать, что он становится бременем для своего рода, — говорит Кропоткин, — когда каждое утро он видит, что достающуюся ему долю пищи отнимают у детей, — а малютки ведь не отличаются стоицизмом своих отцов и плачут, когда они голодны; когда каждый день молодым людям приходится нести его на своих плечах по каменистому побережью или чрез девственный лес — у дикарей ведь нет ни кресел на колесах для больных, ни бедняков, чтобы возить такие кресла, — тогда старик начинает повторять то, что и до сих пор говорят старики крестьяне в России: «Чужой век заедаю — пора на покой!». И он идет на покой. Он поступает так же, как в таких случаях поступает солдат. Когда спасение отряда зависит от его дальнейшего движения вперед, а солдат не может дальше идти и знает, что должен будет умереть, если останется позади, он умоляет своего лучшего друга оказать ему последнюю услугу, прежде чем отряд двинется вперед. И друг дрожащими руками разряжает ружье в умирающее тело. Так поступают и дикари. Старик дикарь просит для себя смерти; он сам настаивает на выполнении этой последней своей обязанности по отношению к своему роду» (114). Готтентоты на упрек европейцев отвечают, что, наоборот, европейцы жестоки, так как содействуют продолжению жизни старика, лишившегося способности передвижения, мерзнущего, дрожащего; из сострадания, говорят они, надо помочь ему умереть (Катрейн, 1,16; Вестермарк, 1, 326). Однако, замечает Кропоткин, «дикарям настолько противно бывает проливать кровь, иначе как в битве, что даже в этих случаях ни один из них не возьмет на себя убийство, а потому они прибегают ко всякого рода окольным путям, которых европейцы не понимали и совершенно ложно истолковывали. В большинстве случаев старика, решившегося умереть, оставляют в лесу, выделив ему более чем должную ему долю из общественного запаса. Сколько раз разведочным партиям в полярных экспедициях случалось поступать точно так же, когда они не в силах были более везти заболевшего товарища. «Вот тебе провизия. Проживи еще несколько дней. Быть может, откуда‑нибудь придет неожиданная помощь!» (115).
Любовь к детям у примитивных народов не менее сильна, чем у культурных, и тем не менее многие из них практикуют убийства новорожденных. «Мы только что упомянули, — говорит Кропоткин, — о том, как алеут будет голодать целыми днями и даже неделями, отдавая все съедобное своему ребенку; как мать–бушменка идет в рабство, чтобы не разлучаться со своим ребенком, и можно было бы заполнить целые страницы описанием действительно нежных отношений, существующих между дикарями и их
детьми. У всех путешественников постоянно попадаются подобные факты. У одного вы читаете о нежной любви матери; у другого рассказывается об отце, который бешено мчится по лесу, неся на своих плечах ребенка, ужаленного змеей; или какой‑нибудь миссионер повествует об отчаянии родителей при потере ребенка, которого он же спас от принесения в жертву тотчас же после рождения; или же вы узнаете, что дикарки–матери обыкновенно кормят детей до четырехлетнего возраста и что на Ново–Гебридских островах в случае смерти особенно любимого ребенка его мать или тетка убивает себя, чтобы ухаживать за своим любимцем на том свете, и т. д. без конца».
«Подобные факты упоминаются во множестве, а потому, когда мы видим, что те же самые любящие родители практикуют детоубийство, мы необходимо должны признать, что такой обычай (каковы бы ни были его позднейшие видоизменения) возник под прямым давлением необходимости, как результат чувства долга по отношению к роду и ради возможности выращивать уже подрастающих детей. Вообще говоря, дикари вовсе не «плодятся без меры», как выражаются некоторые английские писатели. Напротив, они принимают всякого рода меры для уменьшения рождаемости» (112). «Но при всем том первобытные народы не в силах выкармливать всех рождающихся детей, и тогда они прибегают к детоубийству». Однако «родители очень неохотно подчиняются этому обычаю и при первой возможности прибегают ко всякого рода компромиссам, лишь бы сохранить жизнь своих новорожденных. Как уже было прекрасно указано моим другом Эли Реклю, они выдумывают ради этого счастливые и несчастные дни рождения, чтобы пощадить хотя бы жизнь детей, рожденных в счастливые дни; они всячески пытаются отложить умерщвление на несколько часов и потом говорят, что, если ребенок уже прожил сутки, ему суждено прожить всю жизнь. Им слышатся крики маленьких детей, будто доносящиеся из леса, и они утверждают, что, если послышится такой крик, он предвещает несчастье для всего рода; а так как у них нет ни специалистов по «производству ангелов», ни «яслей», которые помогали бы им отделываться от детей, то каждый из них содрогается перед необходимостью выполнить жестокий приговор, и потому они предпочитают выставить младенца в лес, чем отнять у него жизнь насильственным образом» (С. I 113; см. также Вестермарк, I, 334).
Вестермарк указывает на то, что у многих примитивных народов убийство новорожденных не практикуется и они осуждают этот обычай. Мало того, и те племена, у которых этот обычай существует, часто сознают, что он есть зло, и испытывают угрызение совести. У многих народов убийство новорожденного допускается лишь до одного месяца; чаще всего, если ребенок прожил полчаса, жизнь спасена, он воспитывается с нежностью; даже чрезмерною, с большими лишениями для взрослых (I, 337–339).
Каннибализм также объясняется столкновением ранга ценностей и их силы. «Многие дикари, — говорит Кропоткин, — бывают
вынуждены иногда питаться падалью, совершенно разложившейся, а в случаях совершенного отсутствия пищи некоторым из них приходилось разрывать могилы и питаться человеческими трупами, даже во время эпидемии». Даже европейцы, в случае тяжелого голода, прибегали иногда к людоедству: «Немудрено, что прибегали к нему и дикари. Вплоть до настоящего времени они по временам бывают вынуждены съедать трупы своих покойников, а в прежние времена они в таких случаях вынуждены были съедать и умирающих. Старики умирали тогда, убежденные, что своей смертью они оказывают последнюю услугу своему ролу. Вот почему некоторые племена приписываютканнибализму божественное происхождение, представляя его как нечто, внушение повелением посланника с неба.
Позднее каннибализм потерял характер необходимости и обратился в суеверное «переживание». Врагов надо было съедать, чтобы унаследовать их храбрость; потом, в более позднюю эпоху, для той же цели съедалось уже одно только сердце врага или его глаз. В то же время среди других племен, у которых развилось многочисленное духовенство и выработалась сложная мифология, были придуманы злые боги, жаждущие человеческой крови и жрецы требовали человеческих жертв для умилостивления богов. В этой религиозной фазе своего существования каннибализм достиг наиболее возмутительных своих форм» (117 и след.).
Мы подходим, таким образом, к рассмотрению еще одного важного источника различия кодексов морали: мировоззрение у разных народов, представления и учения о строении мира, о средствах для достижения цели, о последствиях поступков и т. п. крайне различны. Отсюда становится понятным, что нередко поступок, в котором мы видим только проявление эгоизма и жестокости, в уме примитивного человека есть суровая мера, предпринимаемая ко благу страдающего от нее, — нечто вроде болезненной операции, восстанавливающей здоровье. Так, у монгольского племени накка есть обычай жестоко убивать девочек, чтобы заставить их в следующий раз, при новом воплощении, явиться на земле в виде мальчика {Вестермарк, I, 336). Некоторые племена в случае рождения двойни, не имея возможности выкормить сразу двух детей, убивают одного из них, успокаивая себя тем, что ребенок вскоре опять родится, может быть, у той же матери (Леви–Брюль. Les fonctions mentales.., 405). Обычай съедать состарившихся родных есть у некоторых племен «священное действие», имеющее целью защиту тела их от червей или обесчещения трупа врагами. Есть племена, у которых распространено