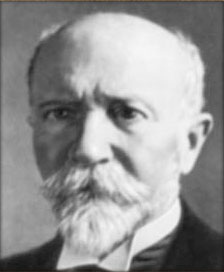до самых своих корней и проедает душу человеческую насквозь. Поэтому его образы дают богатый материал для исследования проблемы зла.
Существо, дошедшее до предела зла, ненавидит Бога и Царств Божие, а также все, что ведет к Нему. Оно борется против Бога и всех, кто вступает на путь Божий. Это положение принимают пожалуй, все христиане, но вслед за ним, для проникновения в тайники природы сатаны, нужно решить еще вопрос, есть ли для него борьба против Бога первичная цель, цель сама по себе, или же они только средство для достижения еще более дорогой ему цели. В первом случае перед нами было бы существо, бескорыстно сеющее зло вокруг себя, наслаждающееся гибелью и страданиями всего живого просто потому, что чужое страдание есть страдание. Во втором случае это — существо, корыстно злое, т. е. причиняющее зло ради приобретения себе какого‑либо блага. Само собой разумеется, бескорыстно злой более ужасен, чем корыстно злой. Если существо, враждебное Богу ради какой‑либо своей (мнимой) выгоды, есть сатана, то тот, кто ненавидит Бога просто и непосредственно, без всякого отношения к своему «я», есть сверхсатана. Для более ясного понимания различия между этими двумя видами существ остается еще только определить, какое именно благо, несовместимое с бытием Бога и любовью к Нему, может сатана предпочесть Богу. Ответ вытекает из самого вопроса: быть самому Богом, быть выше Бога — вот притязание гордыни сатанинской; отсюда вытекает, как следствие, как производное явление, ненависть к Богу и творению Его.
Краткого размышления достаточно, чтобы убедиться, что существо, названное нами сверхсатаной, невозможно. Непосредственная ненависть к Богу и сотворенному Им бытию, как таковому, была бы также непосредственной ненавистью и к своему бытию; но непосредственное отрицание самого себя. — невозможно; ненависть к себе возникает всегда лишь как производное явление, например как следствие недовольства тем, что я. труслив, или неостроумен, или некрасив, вообще не обладаю каким‑либо воображаемым или действительным достоинством.
Невозможность непосредственной ненависти к Богу и ко всему бытию, как таковому, есть одно из следствий неосуществимости вообще абсолютного зла, тогда как абсолютное добро, именно Бог и Царство Божие, существует. Абсолютное зло, т. е. уничтожение бытия просто ради уничтожения его, будучи высшей целью сверхсатаны, не вносило бы никакого раздвоения в его поведение: такое существо, прибегая ко лжи и лицемерию, надевая на себя личину добродетели или даже используя в целях обмана смесь подлинного добра со злом, было бы вполне последовательным, раз только средства ведут к его верховной цели — уничтожению бытия. Известно, как современные этические системы, выросшие на основе «Критики практического разума» Канта, дорожат последовательностью поведения (Липпс, Коген, Мюнстерберг и другие), считая ее существенным признаком нравственности. Сверхсатана. будучи последовательным, был бы удовлетворен своей деятельностью, поскольку достижение его верховной цели зависит от него; единственным источником страданий этого существа было бы
задние того, что оно способно достигать только умаления бытия, «иногда не будет в силах довести до полной гибели других самого себя, так, чтобы водворилось совершенное ничто.
Если бы такое существо было возможно, то в мире встречались бы случаи истязания, производимого просто ради истязания, не из мести, не из ненависти, не вследствие собственной измученности, вызвавшей слепое озлобление против всех, не для упоения своей силой, не для победного торжества над чужим бытием и даже не от скуки, а просто потому, что чужое страдание давало бы удовлетворение истязателю само по себе, без всякого отношения к нуждам его «я», т. е. совершенно бескорыстно. Удовлетворение от чужого мучения здесь не было бы корыстью, так как, согласно предположению, верховная цель заключалась бы в причинении другому существу страданий, а удовлетворение истязателя было бы только выражением того, что цель его достигнута; точно так же, например, бескорыстное жертвование собой ради блага отечества, правда, дает удовлетворение герою, но не ради этого чувства своей удовлетворенности совершает он свой подвиг, и потому эта приятная внутренняя отметка того, что верховная цель (спасение отечества) достигнута, не придает поступку никакого оттенка корысти. Вследствие органической сращенности всякого индивидуума с мировым целым (см., например, мировоззрение, выраженное в моей книге «Мир как органическое целое»), такое бескорыстное, самозабвенное принятие к сердцу блага других индивидуальностей, а также высшего, чем моя индивидуальность, бытия вполне возможно, но невозможно, чтобы существовала такая же самозабвенная, бескорыстная работа, направленная на осуществление чужих страданий. Правда, Достоевский дает много картин, слишком даже много картин, беспричинного, по–видимому, мучительства; общий осадок от его мира остается такой, как будто он допускал сверхсатанинскую злобу; однако в столь утонченном вопросе нельзя полагаться на общее впечатление, необходимо подвергнуть анализу хоть некоторые, наиболее яркие из его образов. Особенно сконцентрированы они в главе «Бунт» Ивана Карамазова. Здесь турки, бросающие вверх грудных младенцев и подхватывающие их на штыки на глазах матерей, турки, ласкающие младенца, чтобы его рассмешить, и в тот момент, когда он радостно хохочет и тянется ручонками к пистолету, спускающие курок; здесь и русский мужик, описанный Некрасовым, мужик, секущий слабосильную лошаденку по плачущим, по «кротким глазам»; здесь генерал, затравивший в глазах матери дворового мальчика за то, что он, играя камнем, нечаянно зашиб ногу любимой генеральской гончей. Однако это не те люди, в душу которых, вплоть до самых сокровенных тайников, вводит нас Достоевский; глубочайшие мотивы их поступков остаются нам неизвестными: может быть, национальная вражда между турками и славянами, заморенность мужика, безумное самомнение генерала, удалившее его на безмерное расстояние от «подлого раба» (так что травля ребенка есть для него не более как интересное зрелище), — источники этих гнусностей.
Более знакомы нам основные причины самого возмутительного явления — истязания детей своими родителями. Иван Карамазов рассказывает, как «интеллигентный образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца семи лет, розгами».. «Папенька рад, что прутья с сучками, «садче будет», говорит он и вот начинает «сажать» родную дочь. Я знаю наверно, есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивнее. Секут минуту. секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше больше чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок наконец не может кричать. задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка!» (Собр. соч. Достоевского. Изд. 1904. XIII. С. 255.)
Далее он говорит о пятилетней девочке, которую родители «били, секли, пинали ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец дошли и до высшей утонченности. в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за те. что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета на учиться проситься), — за это обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла!.. (XIII, 256). Первый из этих рассказов, по–видимому, есть намек на «дело Кронеберга» и защиту его в суде Спасовичем, о чем подробно рассказано в «Дневнике писателя» за 1876 год (февраль, гл. II, с. 57–84, изд. 1905).
На суде оказалось, что отец, приезжая вечером домой со службы, наказывал свою девочку за проступки, совершенные ею днем, за ложь, за развившийся, по его мнению, у ребенка «затаенный порок», а в день особенно тяжелого истязания за то, что ребенок рылся в сундуке мачехи, сломал ее вязальный крючок взял («украл», как говорили родители) из ее сундука чернослив. Без сомнения, здесь нет истязания ради истязания. Первоисточники этой жестокости в борьбе родителей с недостатками детей очень сложны и разнообразны, здесь есть и задетая семейная гордость, честь и честолюбие, и возмущение падением идеала детскою невинности, и ненависть человека к собственным порокам, как в зеркале, отраженным в детях, и властолюбие самодура, не допускающего в особенности, чтобы близкие и подчиненные ему люди преступали его запреты, и т. п. мотивы. Наказание или борьба уже в процессе осуществления может превратиться в истязание. «Тут именно незащищенность‑то, этих созданий, — говорит Достоевский, — и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, — вот это‑то и распаляет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь без удержу, спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и проч.» (XIII, 256). Думается, что этот ужас возникает так: наказание, как и всякое
нападение, пробуждает сильные эмоции, чрезвычайно понижающих сознательность человека; в таком состоянии легко могут поддаться самые архаические атавистические инстинкты, и тогда ребенок, хватающий ручкою за палец своего мучителя, ища спасения у него же и от него же, кажется мучителю злобно сопротивляющимся и еще более распаляет его ярость; тут каждый дальнейший шаг ведет еще ниже в глубину дочеловеческой жизни с ее страшною напряженностью борьбы и звериными проявлениями упоения победою, окончательного преодоления и т. п. чувствами и поступками. (См. об эмоции, как рудиментарном поступке, как о рудименте животных, дочеловеческих инстинктов, мою книгу «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма», гл. «Эмоции».)
Гораздо более сложны и утонченны проявления зла в душе причудливого создания фантазии Достоевского, у Лизы Хохлаковой (в главе «Бесенок» в «Братьях Карамазовых», XIV, с. 265- 270). Она преподносит любимому ею Алеше целый букетдушевных извращенностей самого гадкого свойства. «Вы в мужья не годитесь, — говорит она, — я за вас выйду, и вдруг дам вам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас, вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ принесете». Она заявляет ему, что не стыдится его и не уважает, потом продолжает:
«Я все хочу зажечь дом. Я воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы потихоньку. Они‑то тушат, а он‑то горит. А я знаю, да молчу. Ах, глупости! И как скучно!
Она с отвращением махнула ручкой.
— Богато живете, — тихо проговорил Алеша…
— Пусть я богата, а все бедные, я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам»…
— «Вы злое принимаете за доброе, — говорит Алеша, — это минутный кризис, в этом ваша прежняя болезнь, может быть, виновата.
— А вы таки меня презираете! Я просто не хочу делать доброе, я хочу делать злое, а никакой тут болезни нет.
— А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно»…
«- А может быть, вы думаете, что я вам все это нарочно, что бы вас дразнить?
— Нет, не думаю… хотя, может быть, и есть немного этой потребности.
— Немного есть. Никогда перед вами не солгу, — проговорила она со сверкнувшими каким‑то огоньком глазами».
Самую отвратительную мерзость она преподносит ему под конец:
«…Я читала про какой‑то где‑то суд и что жид четырехлетнему
мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо!
— Хорошо?
— Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он