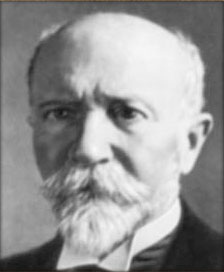висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?»
Трудно понять, как у человека язык поворачивается сказать такое; кажется, что перед нами существо, неисцелимо извращенное, дошедшее до предела падения, а между тем стоит всмотреться внимательнее, и тотчас же обнаружится, что здесь нет сверхсатанинской злобы и что в числе сложных источников этого извращения есть требования чистого добра, чистой любви без малейшей примеси личных мотивов, и презрение к себе за неспособность к такому добру. Кончает она беседу просьбой:
«- Алеша, спасите меня!»
«- Я убью себя, потому что мне все гадко! Я не хочу жить, потому что мне все гадко. Мне все гадко, все гадко! Алеша, зачем вы меня совсем, совсем не любите! — закончила она в иступлении.
Нет люблю! — горячо ответил Алеша. А будете обо мне плакать, будете?
— Буду.
— Не за то, что я вашей женой не захотела быть, а просто обо мне плакать, просто? Буду.
— Спасибо! Мне только ваших слез надо. А все остальные пусть казнят меня и раздавят ногой, все, все, не исключая никого! Потому что я не люблю никого. Слышите, ни–ко–го! Напротив, ненавижу! Ступайте, Алеша, вам пора к брату! — оторвалась она от него вдруг.
— Как же вы останетесь? — почти в испуге проговорил Алеша.
— Ступайте к брату, острог запрут, ступайте, вот ваша шляпа! Поцелуйте Митю, ступайте, ступайте!
И она с силой почти выпихнула Алешу в двери».
Чистой любви она требует от Алеши, без сомнения также и от себя. Ананасный компот впервые появился на сцену так:
«Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет (ведь четырехлетние мальчики понимают), а у меня всё эта мысль про компот не отстает» (XIV, 269).
Только что человеческая душа прониклась чистой симпатией к страдающему ребенку, и вдруг игра ассоциаций подсовывает из области подсознательного нелепый компот. Как не возмутиться духом против этой гнусности, тем более что такое странное сочетание представлений вовсе не есть чисто теоретический и притом непроизвольный процесс смены образов: под ассоциациями, самыми хаотическими, даже возникающими в состоянии душевной
болезни, кроются, как первоисточник их, подсознательные устремления воли. Трудно сказать, какой мотив таился в душе Лизы. Быть может, яркая ужасающая картина распятия мальчика не только потрясла ее душу состраданием к ребенку, но и бессознательно пробудила страх за себя, как это часто бывает, когда человек видит или даже только представляет себе что‑либо ужасное; однако тотчас же является и сознание того, что мне‑то бояться нечего, я в полной безопасности и довольстве, в такой же мере, как бывает тогда, когда «ем любимый ананасный компот». Эта примесь к страху за другого еще и страха за себя, да к тому же с таким нелепым самоуспокоением, подрывает веру в добро, вселяет в душу презрение к себе и ко всему миру: «все гадко», «ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось!». Такой быстрый переход от усмотрения зла в себе к отрицанию добра и в других, конечно, возникает уже на почве гораздо более глубокой порчи души, чем страх, — именно на основе гордости, не допускающей возможности того, чтобы, если я оказался плохим, другие были хороши. Сердцеведец Зосима знает этот путь, прямо ведущий к вратам ада, и предостерегает от недоверия к себе и другим:
«Брезгливости убегайте тоже и к другим, и к себе: то, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается…» «Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень» (XIII, 63).
Какую систематическую форму может принять это неверие в добро, мы знаем из разреза души Ивана Карамазова. Как и Лиза, не найдя чистого добра в себе, он стал не в меру зорким ко злу в других и усомнился в существовании добра вообще. «Он сам, может, верит ананасному компоту, — говорит Алеша. — Он тоже очень теперь болен, Lise.
— Да, верит! — засверкала глазами Лиза. Он никого не презирает, — продолжал Алеша. — Он только никому не верит. Коль не верит, то, конечно, и презирает» (XIV, 269).
Что отрицание добра не есть первичная основа воли Лизы, видно из того, как она казнит себя за «бесенка» в душе своей: «…только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через десять, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села, вся выпрямившись, и. стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из‑под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя: «Подлая, подлая, подлая, подлая!» (270).
Утонченные формы истязания путем причинения не физических, а нравственных страданий, например отношение Катерины Ивановны к Дмитрию Федоровичу Карамазову, отношение Грушеньки к людям, Настасьи Филипповны, Фомы Опискина и других героев Достоевского, явным образом также возникают, как вторичное
явление, обыкновенно на почве какой‑либо психической травмы (душевного поражения), развивающей жажду мести всем людям, всему обществу, недоверия ко всякому человеку.
Конечно, всякое поранение предполагает душу несовершенную, испорченную какими‑либо видами самолюбия или себялюбия, которые весьма разнообразны. Так, бывают, например, себялюбцы, вовсе не интересующиеся другими людьми, не гордые и не завистливые, а только сосредоточенные на своей деятельности, любящие свою активность, проявление своей энергии, — бывают среди них и такие, которые направляют эту энергию на высокие, сверхличные цели, однако так, что сверхличное служит для них лишь средством удовлетворить свою самость, наполнить свою душевную жизнь разнообразным интересным содержанием или насладиться своей ловкостью, искусством, талантом и т. п. (Эгоистические характеры, см. о них в главе «Характер» в моей книге «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма»); наоборот, другие себялюбцы сосредоточены на отношении их самости к другим «я»; у них нет равнодушия к чужой жизни, они проявляют чрезвычайно повышенный, однако отрицательный, интерес к другим «я», выражающийся в зависти или гордости, не терпящей чужого превосходства. Таким образом, всякая форма самолюбия и себялюбия ведет к отчуждению от других людей, которое может дойти до таких пределов, что себялюбец, ничуть не будучи злобным или мстительным, способен причинять людям тяжкие страдания лишь от скуки (Клеопатра, втыкающая булавки в грудь невольниц) или из любопытства (Ставрогин, которому одинаково доступна красота «и зверского сладострастия, и подвига», что возможно только при крайнем эгоцентризме).
Принимая во внимание множество и разнообразие путей возникновения зла на основе нарушения гармонии между человеком и миром, вследствие большей, чем должно, любви к своему «я», приходится признать, что даже и Достоевский не дает образов, устанавливающих бесспорно существование ненависти к чужому благу, как первичного устремления воли, не дает права допускать такую природу, которую мы назвали сверхсатанинской.
Н. К. Михайловский в своей статье о Достоевском «Жестокий талант» утверждает, что «есть люди, мучающие других людей не из корысти, не ради мести, не потому, чтобы те люди им как‑нибудь поперек дороги стояли, а для удовлетворения своей мучительской наклонности» (Собр. соч. Т. V. Изд. 4. С. 58 и след.).
По его мнению, многие герои Достоевского такие истязатели, например «Человек из подполья» мучит своими разговорами проститутку, доводя ее до неутешных рыданий, и в изображении этого утонченного истязания «Достоевский отверг все внешние, посторонние мотивы: герой мучит, потому что ему хочется, нравится мучить. Ни причины, ни цели тут нет, да вовсе их, по мысли автора, и не надо, ибо есть жестокость, безусловная жестокость an und für sich, и она‑то интересна» (Там же. С. II). Сам Достоевский, по его мнению, такой же истязатель, отличающийся только от
обыкновенных мучителей своим великим художественным талантом, который он использует для истязаний читателя. Доказывает он свой тезис путем рассмотрения ранних произведений Достоевского, изобилующих художественными недостатками: «Двойник», «Чужая жена и муж под кроватью», «Вечный муж». Характерно, что и совершеннейшие произведения Достоевского Михайловский считает содержащими в себе множество орудий бесцельной пытки но не доказывает своей мысли анализом их по недостатку времени и места. «Позднейшие произведения, — говорит он, — начиная от «Преступления и наказания», и особенно самые последние — «Бесы», «Братья Карамазовы» — переполнены ненужною жестокостью через край» (С. 49).
Следуя трафарету нашей передовой печати все и вся объяснять условиями социальной жизни, Михайловский усматривает причину развития «жестокого таланта» у Достоевского в том, что у него не было определенного идеала, и особенно в том, что русская действительность до эпохи великих реформ, а также вскоре после нее препятствовала выработке таких идеалов и активной общественной жизни. Из рассуждений Михайловского, однако, явствует, что он не поставил проблему мучительства, как первичного мотива воли, достаточно отчетливо и не доказал существования такого явления. Он говорит о мучительстве «без утилитарной подкладки», без материальной «выгоды» для мучителя. Но выгоду в более утонченном смысле, например для утоления самолюбия, он вряд ли стал бы отрицать; по крайней мере, о Фоме Опискине («Село Степанчиково и его обитатели»), на подробном обследовании которого он основывает свою статью, он говорит: «Словами «ненужная жестокость» исчерпывается вся нравственная физиономия Фомы, и если прибавить безмерное самолюбие при полном ничтожестве, так вот и весь Фома Опискин». Но самолюбие, к которому нужно прибавить еще унижение, испытываемое им, как приживальщиком, от генерала, прежнего владельца села Степанчикова, а также обиды от неудач на литературном поприще — вот первичные страсти и чувства, из которых родилась его мстительность, выражающаяся в издевательстве над людьми.
Итак, ненависть всегда есть производное явление, обусловленное погоней за каким‑либо личным благом; однако благо это может быть не физическим, а утонченным душевным. Даже отпадение сатаны есть не первичное проявление его воли, а производное. По мнению отца церкви св. Григория Богослова, «первейший из небесных светов» утратил свет и славу «по гордости своей» и, «захотев быть Богом, весь стал тьмою» (см. об этом и о мнениях Других отцов церкви — Макарий. Православно–догматическое богословие. 5–е изд. С. 404–411).
Отсюда следует, что сатана знает о совершенстве Бога. И понятно: абсолютная ценность всяким, кто усмотрел ее (даже настолько, что позавидовал ей), не может быть непризнана ценностью, но может быть отвергнута волей или, вернее, может стать предметом извращенного отношения к ней воли: сатана, вместо
того чтобы полюбить Бога больше себя, любит только идею божественности и хочет присвоить себе это достоинство или, буде это возможно, унизить Бога, чтобы удовлетворить своей первичной страсти — гордости. Он примирился бы с Господом, если бы Господь исполнил его требование, когда он, указывая на все царства вселенной, сказал: «Все это дам тебе, если падши, поклонишься мне» (Мф. 4, 9).
Такой дух, видящий больше, чем мы, не может иной раз не поддаться очарованию неотразимого превосходства Бога и существ, сливающихся в согласной любви к нему, но до конца, до преклонения перед Господом, он не дойдет. «Я был при том, — говорит черт Ивана Федоровича, — когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «Осанна», и громовой вопль восторга серафимов,