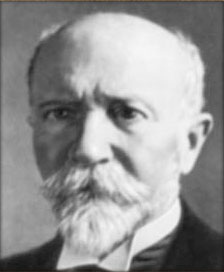«Вечерний звон»). В одном из писем он говорит, что чувствует «Божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью». М. П. Чехова, сестра писателя, рассказывает, что Левитан любил вечернюю службу где‑нибудь в деревенской церковке. Тихая ее прелесть была этому еврею ближе, чем многим православным*. Религиозную живопись обогатили оригинальными произведениями Виктор Васнецов, Нестеров («Пустынник», «Отрок Варфоломей», «Великий постриг»), Врубель (роспись церкви Кирилловского монастыря близ Киева). Значительное влияние оказали на многих художников такие утонченные эстеты, как «художник Версаля» Александр Бенуа и Константин Сомов. Разнообразие дарований и тем творчества художников предреволюционного времени становится ясным при сопоставлении следующих имен: Рерих, Билибин, Остроумова–Лебедева, Добужинский, Лукомский, Кустодиев, Малявин, Петров–Водкин. Особого упоминания заслуживает театральное искусство декораций и костюмов, повлиявшее на Запад–ную Европу; в этой области поработали Бенуа, Константин Коровин, Врубель, Рерих, Добужинский.
Книга Александра Бенуа «Русская школа живописи» содержит в себе историю русской живописи со времени Петра Великого. Она дает представление о расцвете этого искусства в конце XIX и начале XX века. Понятны поэтому следующие слова Христиана Бринтона, написавшего предисловие к английскому переводу этой книги: «Русский везде проявляет силу непосредственного конкретного наблюдения и способность схватывать жизненные стороны данной сцены или ситуации и достигать в изображении их убедительной действенности». «Я радуюсь случаю признать, хоть в малой мере, долг, которым я обязан вашей сложной и вдохновляющей стране». Талантливый живой очерк расцвета русской
живописи дал С. Маковский в книге «Силуэты русских художников» (Прага, 1922).
Кустарное народное искусство также содержит в себе немало проявлений талантливости русского народа. Наряду с ремесленными произведениями есть и подлинное творчество в работах, например, иконописцев села Палех или села Холуй Владимирской губернии. В эпоху расцвета русской живописи интеллигенция обратила внимание на кустарное искусство и приобщилась к нему главным образом в замечательных мастерских имения Талашкино княгини Тенишевой в Смоленской губернии и в селе Абрамцеве Мамонтова *.
В области архитектуры русский народ в течение всей своей истории проявлял интерес и способность к храмовому зодчеству. Сведения об этом искусстве можно получить в великолепной «Истории русского искусства», двадцать два выпуска которой вышли под редакцией Игоря Грабаря. Ценный труд этот не был закончен, потому что во время первой мировой войны московская чернь, учинившая немецкий погром, напала на издательство Кнебеля и уничтожила клише, заготовленные для продолжения этой истории искусства.
Способность к архитектуре русский народ проявил с самого начала своей культурной жизни. Она проявлялась до XVIII века преимущественно в храмовом зодчестве. Первые церкви были построены византийскими мастерами; русские мастера стали вносить в них новые черты сообразно своему вкусу, и во Владимирско–Суздальской области появились храмы, представляющие собой результат русского оригинального творчества, например Димитриевский собор во Владимире–на–Клязьме, вслед затем церкви в Москве и ее окрестностях; ценны также храмы Новгорода, Пскова и замечательные деревянные церкви на севере России. Живое представление об этой церковной архитектуре и ее достоинствах дают статьи в «Истории русского искусства» Игоря Грабаря. Тамара Толбот Раис в книге «Russian Art» дает следующую оценку архитектуры русских церквей: «Основной характер русской архитектуры в целом может быть определен как гениальное понимание композиции, привлекающей внимание внушительным размахом, декоративною формою или очаровательною интимностью. У русских архитекторов безошибочный глаз в. отношении красивых, иногда неожиданных пропорций и предпочтение к эффектам, зависящим главным образом от формы, но иногда также поддерживаемым декоративными украшениями»**.
Светская архитектура была преимущественно деревянная. Богатые бояре строили себе затейливые терема. Образцом их может служить дворец царевича Димитрия в Угличе и особенно
сложный царский дворец в селе Коломенском, модель которого хранится в Москве.
В XVIII веке Петр Великий пригласил из Италии скульптора Растрелли, который, основавшись в России, привез в 1716 году своего шестнадцатилетнего сына в С. — Петербург. Молодой человек глубоко усвоил своеобразие русской архитектуры, особенно московской, изучил архитектуру Франции и Италии и стал великим оригинальным архитектором, сочетавшим в своих творениях западноевропейское и русское искусство. Ему принадлежит много ценных сооружений, например Смольный монастырь, Царскосельский дворец, собор Сергиевской пустыни близ Стрельны и др. Под руководством Растрелли (умер в 1771 г.) воспиталась целая школа русских архитекторов XVIII века. К ней принадлежат князь Ухтомский, Баженов, Казаков, Старов. В начале XIX века следует отметить деятельность Захарова, стороителя Адмиралтейства, и Воронихина, строителя Казанского собора. В конце XIX и начале XX века возникло особенно многостороннее пышное цветение русской культуры. И в области архитектуры появились новые многообещающие таланты, но они не успели проявить себя во всей полноте, потому что большевистская революция прервала здоровое развитие русской духовной жизни.
Глава восьмая РУССКИЙ МЕССИАНИЗМ И МИССИОНИЗМ
Вл. Соловьев говорит в статье «Идолы и идеалы», что у всех значительных народов возникает обыкновенно идеал национального мессианства, но этот идеал имеет положительное содержание лишь в том случае, если он имеет форму христианского универсализма.
В Московской Руси уже в начале XVI века национальное мессианство получило яркое выражение в идеологии псковского инока Филофея, согласно которой «два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Третий Рим Москва. Он писал об этом самому великому князю Василию III в годах 1514–1521. «В своих посланиях, — говорит Милюков, — он особенно подчеркивает ту мысль, что политическое падение православных царств связано с их религиозною изменою и что политическое господство Москвы есть следствие ее религиозной непоколебимости» *. В XIX веке мысль, что Россия будет иметь со временем руководящее влияние в жизни Европы и выработает высокую форму культуры, высказывали основатель славянофильства Иван Васильевич Киреевский, Чаадаев, Н. Я. Данилевский. Достоевский в своей Пушкинской речи выразил эту мысль, ставя ее в связь с характером
русского народа. Он говорил, что после реформы Петра Великого мы «дружественно, с полною любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая племенных различий». «Стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком». «Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силою братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». «Стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!».
Возможно, что толчком к этим мыслям Достоевского послужила речь Вл. Соловьева «Три силы», сказанная им в 1877 году. Он говорил, что «три коренные силы» управляют человеческим развитием: первая сила, центростремительная, ставит себе целью подчинить человечество одному верховному началу, уничтожая многообразие частных форм, подавив свободу личной жизни; вторая сила, центробежная, отвергает значение общих объединяющих начал. Результат исключительного действия первой силы был бы таков: «один господин и мертвая масса рабов»; наоборот, крайним выражением второй силы был бы «всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи»; третья сила. Божественная, «дает положительное содержание двум первым, освобождает их от их исключительности, примиряет единство высшего начала с свободною множественностью частных форм и элементов, созидает, таким образом, целость общечеловеческого организма и дает ему внутреннюю тихую жизнь». «Третья сила… может быть только откровением высшего Божественного мира, и… тот народ, через который эта сила имеет проявиться, должен быть только посредником между человечеством и тем миром, свободным,. сознательным орудием последнего… От народа–носителя третьей, Божественной силы требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, возвышение над узкими специальными интересами, требуется, чтобы он не утверждал себя с исключительной энергией в какой‑нибудь частной низшей сфере деятельности и знания, требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положительную действительность высшего мира и покорное к нему отношение. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру славянства, в особенности же национальному характеру русского народа». В самом деле, говорит Соловьев, идеал русского народа имеет религиозный характер, он выражен в идее «Святой Руси»; способность к сочетанию восточных начал с западными в русском народе исторически доказана успехами реформы Петра Великого; способность к национальному самоотречению, необходимая для признания папы римского верховным первосвященником Вселенской
Церкви, присуща русскому народу, как это видно хотя бы из истории призвания варягов *.
Соловьев, вслед за Тютчевым, мечтал, что Россия станет всемирной христианской монархией. Для этой цели, думал он, необходимо воссоединение Восточной Церкви, обладающей богатствами мистического созерцания, с Западной Церковью, создавшей независимую от государства сверхнародную духовную власть; сочетание такой воссоединенной Церкви с политической мощью государства, покоряющегося нравственной силе авторитета Церкви, положило бы основу вселенской теократии. В этой теократии духовная власть принадлежала бы папе римскому, а политическая — русскому императору.
В дальнейшем своем развитии Соловьев отказался от этой утопии, но в своей этике, в «Оправдании добра» он высказал такие глубокие мысли о нравственно правильном отношении народов и государств друг к другу, что их вполне уместно привести здесь. Они соответствуют духу русского народа и его миссии после преодоления большевизма. Как отдельные человеческие личности, так и целые нации стоят перед задачей гармонически восполнять друг друга, не утрачивая своего оригинального своеобразия, а, наоборот, выявляя его в предельной полноте. «Истинное единство народов, — говорит Соловьев, — есть не однородность, а всенародность, т. е. взаимодействие и солидарность всех их для самостоятельной и полной жизни каждого» (Гл. XIX). На этом пути осуществляется не отвлеченный общий человек марксистов, а конкретный всечеловек в том смысле, что каждый индивидуум в соборном единении с другими индивидуумами участвует во всей полноте и разнообразии жизни человечества. Такой идеал противоположен всенивелирующему и всеобедняющему интернационализму: это — супранационализм (согласно выражению классического филолога Фаддея Францевича Зелинского в одной из его статей, напечатанной в газете «Речь»), требующий не подавления, а развития национальных особенностей.
Соборное единение различных народов предполагает возможность взаимопроникновения национальных культур. Как аромат ландыша, голубой свет и гармоничные звуки могут наполнять одно и то же пространство и сочетаться воедино, не утрачивая своей определенности, так и творения различных национальных культур могут проникать друг в друга и образовать высшее единство. Фактически мы встречаем на каждом шагу взаимную непроницаемость различных культур, холодную чуждость их друг другу и обособление. Этот факт подмечен Шпенглером и возведен им в ранг непреодолимого закона. В действительности, однако, такая непроницаемость и отталкивание существуют лишь в той мере, поскольку нация не осуществляет своего идеального назначения, поскольку в ее творчестве есть искажение добра и воплощение отрицательных ценностей. Так, скрипач и пианист, исполняя сонату
Бетховена, осуществляют гармоническое целостное единство, но, если разойдутся, получается раздирающая ухо какофония отталкивающих друг друга звуков. Чтобы не было какофоний наций, необходимо, согласно учению Соловьева, применить заповедь Иисуса Христа: «Люби ближнего, как самого себя» — также и к общению наций: «Люби все другие народы, как свой собственный». Он поясняет, что это требование вовсе не означает психологической одинаковости чувства, а только этическое равенство волевого отношения: я должен так же хотеть истинного блага всем другим народам, как своему собственному; эта любовь благоволения одинакова уже потому, что истинное благо едино и нераздельно. Разумеется, такая этическая любовь связана и с психологическим пониманием и одобрением положительных особенностей всех чужих наций; преодолев нравственной волей бессмысленную и невежественную национальную