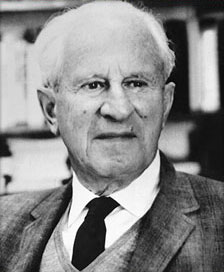Одномерный человек
бы переходом к более вы-сокой ступени цивилизации. Подчеркивая зловещие
импликации этого суждения, беру на себя смелость
утверждать, что такое новое направление технического 298 Катастрофа освобождения прогресса было бы катастрофой для утвердившегося
направления,- не просто количественной эволюцией
преобладающей (научной и технологической) рацио-
нальности, но скорее ее катастрофической трансфор-
мацией, возникновением новой идеи Разума как те-
оретического, так и практического. Эта новая идея Разума выражена в суждении Уай-
тхеда: <Функция Разума заключается в содействии ис- кусству жизни>*. С точки зрения такой цели Разум
является <направлением атаки на среду>, которая вы-
текает из <тройного стремления: (1) жить, (2) жить хорошо, (3) жить лучше>2. Суждения Уайтхеда, как нам кажется, описывают и
реальное развитие Разума, и его неудачи. Точнее они
ведут к мысли, что Разум все еще ожидает своего
исследования, познания и реализации, поскольку до
сих пор исторической функцией Разума было также
подавлять и даже разрушать стремление жить, жить
хорошо и жить лучше — или хотя бы отсрочивать осу-
ществление этого стремления, устанавливая для него
непомерно высокую цену. В определении функции Разума Уайтхедом термин
<искусство> включает элемент решительного отрица-
ния. Разум в его применении к обществу был, таким
образом, резко противопоставляем искусству, в то время
как искусству была дарована привилегия быть несколь-
ко иррациональным — не подчиняться научному, техно-
логическому и операциональному Разуму. Рациональность I A. N. Whitehead, The Function of Reason (Boston: Beacon Press, 1959),
P. 5.
2 Ibid., p. 8. II’ 299 III. Шанс альтернативы господства разделила Разум науки и Разум искусства,
или нейтрализовала Разум искусства посредством инте-
грации искусства в универсум господства. Это было
действительное разделение, ибо вначале наука включала
и эстетический Разум, и свободную игру, и даже безум-
ство воображения и преображающую фантазию; иными
словами наука занималась рационализацией возмож-
ностей. Однако эта свободная игра сохраняла связь с
преобладающей несвободой, в которой была рождена и
от которой абстрагировалась; и сами возможности, с ко-
торыми играла наука, были также возможностями осво-
бождения — возможностями более высокой истины. Здесь — изначальная связь (в пределах универсума
господства и нужды) между наукой, искусством и фило-
софией. Это осознание расхождения между действи-
тельным и возможным, между кажущейся и подлинной
истиной, и попытка познать это расхождение и овладеть
им. Одной из первоначальных форм его выражения
было различие между богами и людьми, конечностью
и бесконечным, изменением и постоянством’. Нечто из
этой мифологической взаимосвязи между действитель-
ным и возможным все же осталось в научном мыш-
лении, продолжая направлять его к более рациональной
и истинной действительности. Так, математика счита-
лась действительной и <хорошей> в том же смысле,
что и платоновские метафизические Идеи. Каким же
образом развитие первой впоследствии стало наукой,
тогда как развитие последних оставалось метафизикой? Наиболее очевиден тот ответ, что научные абстракции
в значительной степени возникали и доказывали свою ‘ См. главу 5. 300 Катастрофа освобождения истинность в процессе реального покорения и прео-
бразования природы, что было невозможно для фило-
софских абстракций. Ибо покорение и преобразование
природы происходило по закону и порядку жизни,
который философия пыталась трансцендировать, под-
чиняя его <благой жизни>, подчиняющейся иному за-
кону и порядку. Причем этот иной порядок, который
предполагал более высокую степень свободы от тяже-
лого труда, невежества и нищеты, был недействитель-
ным как на заре философской мысли, так и в процессе
дальнейшего ее развития, в то время как научная мысль
по-прежнему была применима ко все более могуще-
ственной и всеобщей действительности. Естественно,
что философские понятия конечной цели не были и
не могли быть верифицированы в терминах утвердив-
шегося универсума дискурса и действия и, таким обра-
зом, оставались метафизическими. Но если ситуация такова, то случай метафизики и
особенно случай значения и истинности метафизиче-
ских высказываний — случай исторический. Т.е. истин-
ность и познавательную ценность таких высказываний
определяют скорее исторические, чем эпистемологи-
ческие условия. Подобно всем высказываниям, претен-
дующим на истинность, они должны быть верифици-
руемы; они должны оставаться внутри универсума воз-
можного опыта. Этот универсум никоим образом не
сосуществует с утвердившимся универсумом, но рас-
пространяется до границ мира, который может быть
создан посредством преобразования утвердившегося, при-
чем средствами им же предоставляемыми или отвергае-
мыми. В этом смысле зона верифицируемости возрастает 301 III. Шанс альтернативы в ходе истории. Таким образом, спекуляции по поводу
Благополучной Жизни, Благополучного Общества, По-
стоянного Мира приобретают все более реалистическое
содержание; на технологической основе метафизическое
имеет тенденцию становиться физическим. Более того, если истинность метафизических выска-
зываний определяется их историческим содержанием
(т.е. степенью определения ими исторических возмож-
ностей), то отношение между метафизикой и наукой
является строго историческим. В нашей собственной
культуре все еще считается само собой разумеющейся,
по крайней мере, та часть сен-симоновского закона трех
ступеней, которая утверждает, что метафизическая ста-
дия цивилизации предшествует научной стадии. Но
является ли эта последовательность окончательной? Не
содержит ли научное преобразование мира свою соб-
ственную метафизическую трансцендентность? На развитой стадии индустриальной цивилизации
научная рациональность, преобразованная в полити-
ческую власть, становится, по-видимому, решающим
фактором в развитии исторических альтернатив. Воз-
никает вопрос: не обнаруживает ли эта власть тен-
денции к своему собственному отрицанию — т.е. к со-
действию <искусству жизни>? Тогда высшей точкой
применения научной рациональности, непрекращаю-
щейся в современном мире, стала бы всеохватная меха-
низация труда, необходимого в плане социальном, но
репрессивного в индивидуальном плане (<необходимое в плане социальном> здесь включает все операции,
которые могут быть выполнены машинами более эф-
фективно, даже если эти операции производят предметы 302 Катастрофа освобождения роскоши и безделушки, а не предметы первой необ-
ходимости). Но эта стадия была бы также целью и
пределом научной рациональности в его существующей
структуре и направлении. Дальнейший прогресс означал
бы скачок, переход количества в качество, который бы
открыл возможность существенно новой человеческой
действительности — а именно, жизни в свободное вре-
мя на основе удовлетворения первостепенных потреб-
ностей. В таких условиях научный проект сам стал бы
свободным для внеутилитарных целей и для <искусства жизни> по ту сторону необходимости и роскоши гос-
подства. Иными словами, завершение технологической
действительности было бы не только предпосылкой, но
также рациональным основанием прансирндирования тех-
нологической действител ьн ости. Это означало бы переворот в традиционных отно-
шениях между наукой и метафизикой. В результате
научной трансформации мира идеи, определяющие дей-
ствительность в понятиях, отличных от понятий точных
или поведенческих наук утратили бы свой метафи-
зический и эмоциональный характер, и стало бы воз-
можным проектировать и определять вероятную дей-
ствительность свободного и умиротворенного суще-
ствования именно с помощью научных понятий. Их
разработка означала бы больше, чем эволюцию преоб-
ладающих наук. Это затронуло бы научную рациональ-
ность в целом, которая, таким образом, утратила бы
связь с несвободным существованием и означала бы
идею новой науки и нового Разума. Если завершение технологического проекта пред-
полагает разрыв с господствующей технологической 303 III. Шанс альтернативы рациональностью, то этот разрыв в свою очередь зависит
от продолжительного существования самого техничес-
кого базиса. Ибо именно этот базис сделал возможным
удовлетворение потребностей и сокращение тяжелого
труда — и остается базисом ни больше, ни меньше как
всех форм человеческой свободы. В его реконструкции —
т.е. в его развитии с точки зрения различных целей —
и состоит, по-видимому, качественное изменение. Я подчеркнул, что это не означает возрождения духов-
ных или иных <ценностей>, которые должны дополнять
научную и технологическую трансформацию человека
и природы*. Напротив, историческое достижение науки
и техники сделало возможным перевод ценностей в
технические задачи — материализацию ценностей. Сле-
довательно, на карту поставлено переопределение цен-
ностей в технических терминах как элементов техно-
логического процесса. Становится возможным действие
новых целей, как технических, не только в применении
машин, но и в их проектировании и создании. Более
того, новые цели могли бы утверждать себя даже в
построении научных гипотез — в чистой научной тео-
рии. Наука же могла бы перейти от квантификации
вторичных качеств к квантификации ценностей. Например, можно рассчитать минимум труда, с по-
мощью которого (и степень, до которой) возможно
было бы удовлетворение жизненных потребностей всех
членов общества — при условии, что наличные ресурсы
будут использоваться для этой цели без ограничения
иными интересами и без помех накоплению капитала, ^ См. главу 1, особенно стр. 24.
304 9, Катастрофа освобождения необходимого для развития соответствующего общества.
Иными словами, исчислению поддается достижимый
уровень свободы от нужды. Или можно высчитать сте-
пень, в которой при тех же самых условиях может быть
обеспечена забота о больных, немощных и стариках —
т.е. высчитать возможность уменьшения беспокойства,
свободы от страха. Теперь препятствия, которые стоят на пути мате-
риализации, могут быть определены как политические
препятствия. Индустриальная цивилизация достигла
точки, когда, учитывая стремление человека к чело-
веческому существованию, абстрагирование науки от
конечных (final) причин устарело с ее собственной
точки зрения. Сама наука сделала возможным включить
конечные причины в сферу науки в собственном смыс-
ле. Общество, должно рассматривать проблемы финальности* (finalite), оши-
бочно полагаемые этическими, а иногда религиозными, как техни-
ческие вопросы посредством роста и расширения технической
сферы. Незавершенность техники создает фетиш этих проблем и
подчиняет человека целям, которые он мыслит как абсолютные^ В этом плане <нейтральный> научный метод и тех-
нология становятся наукой и технологией исторической
фазы, которая преодолевается своими собственными
достижениями — которая пришла к своему решитель-
ному отрицанию. Вместо того, чтобы оставаться от-
деленными от науки и научного метода предметами
субъективного предпочтения и иррациональной, транс-
цендентальной санкции, метафизические некогда идеи ^ Gilbert Simondon, /ос. cit. р. 151; курсив мой. Т.е. проблемы, связанные с конечными причинами (целями). 305 III. Шанс альтернативы освобождения могут стать истинным объектом науки.
Но это развитие ставит перед наукой неприятную задачу
политизации, которая заключается в том, чтобы рас-
познавать научное сознание, как политическое сознание,
а научное предприятие, как предприятие политическое.
Ибо преобразование ценностей в потребности, конечных
причин в технические возможности является новым
этапом в покорении угнетающих, непокоренных сил и
общества, и природы. Это акт освобождения: Человек освобождается из ситуации своего подчинения фи-
нальности всего, научаясь создавать финальность, организовы-
вать <финализированное> целое, которое он подвергает суж-
дению и оценке. Человек преодолевает порабощение путем со-
знательной организации финальности.’ Однако, конституируя себя методически как поли-
тическое предприятие, наука и технология преодолева-
ют свою нейтральность, вследствие которой они были
подчинены политике и вопреки своим целям функци-
онировали как политические инструменты, и входят в
новый этап своего развития. Ибо технологическая пере-
оценка и техническое господство (mastery) над конеч-
ными причинами есть созидание, развитие и исполь-
зование ресурсов (материальных и интеллектуальных),
которые освобождены от всех частных интересов, ме-
шающих удовлетворению человеческих потребностей и
эволюции человеческих способностей. Другими сло-
вами, это рациональное предприятие человека как че-
ловека, как человечества. Технология, таким образом,
обеспечивает историческую коррекцию преждевремен-
ного отождествления Разума и Свободы, в соответствии I IKd., р. 103. 306 Катастрофа освобождения с которым человек мог стать и оставаться свободным
в процессе самое себя увековечивающего производства
на основе угнетения. Но в той мере, в какой технология
развилась на этой основе, такая коррекция никогда не
может быть результатом технического прогресса per se.
Она включает в себя также и политическую перемену. Индустриальное общество владеет инструментом для
преобразования метафизического в физическое, вну-
треннего во внешнее, событий в сознании человека в
события в сфере технологии. Такие пугающие фразы
(и реальность) как <инженеры человеческих душ>, <пе- рекачка мозгов> (head slirinkers), <научное управление>,
<наука потребления> дают набросок (в убогом виде)
прогрессирующей рационализации иррационального, <ду- ховного> — отказа от идеалистической культуры. Ибо
перевод ценностей в потребности есть двоякий процесс:
(1) материального удовлетворения (материализации сво-
боды) и (2) свободного развития потребностей на осно-
ве удовлетворения (нерепрессивной сублимации). В
этом процессе отношение между материальными и ин-
теллектуальными способностями претерпевает фунда-
ментальное изменение. Свободная игра мысли и вооб-
ражения предполагает рациональную и направляющую
функцию в реализации умиротворенной жизни человека
и