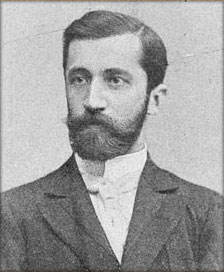считаю истиной. Но вместе с тем полагаю, что не все христианство в догматах. Христианство больше, чем догматы. Да и существо самого догмата открывается не столько ведению, сколько деланию. Можно ведать не делая и делать не ведая.
Л. Толстой делает не ведая. Христа Сына Божиего не ведает, но делает то, чего нельзя делать, или хочет того, чего нельзя хотеть, если Христос не Сын Божий. Не верит, но любит; умом отрицает, сердцем утверждает.
В моем исследовании «Л. Толстой и Достоевский»[31] я старался показать, что религиозное сознание Л. Толстого скорее буддийское, чем христианское, и что в художественном творчестве он «великий язычник», в самом глубоком религиозном смысле этого слова. Но религиозное язычество есть не что иное, как непросветленное, несознанное христианство, непройденный путь ко Христу, откровение Отца, которое предшествует откровению Сына, Ветхий Завет, как чаяние Нового; религиозное язычество на своих предельных высших точках есть «христианство до Христа». В этом-то смысле великие учители церкви — Юстин Философ и Климент Александрийский — видели в эллинской красоте и мудрости «восходящую к нему лестницу», «Пропилеи к христианству». В этом же смысле Павел указал афинянам на жертвенник Неведомому Богу, и «поклонение волхвов» есть поклонение Христу дохристианских веков. Но того же, что о древнем, нельзя ли сказать и о новом язычестве? Не относится ли это новое язычество к вечному христианству, как остальная темная часть лунного диска к светлому серпу во время затмения: затмение кончается, серп растет, и темная часть светлеет, — язычество становится христианством. Именно сейчас в России больше, чем где-либо, таких христиан-язычников, людей, лица Христова еще не видящих, но уже за край одежды его ухватившихся. И не обратит ли к ним лица своего, оттолкнет ли их он, сказавший: приходящего ко Мне не изгоню.
Кажется, к этим именно христианам-язычникам, «христианам до Христа» принадлежит и Л. Толстой, если не как религиозный учитель, то как великий художник.
На иконостасах древнейших русских церквей рядом со святыми и мучениками находятся изображения сибилл, мудрецов и поэтов языческой древности, которые, не ведая имени Господа, чаяли его пришествия. Может быть, в церкви вселенской к этому сонму древних предтеч прибавится и Л. Толстой. Ведь и он, как они, очами не видя Христа, сердцем к нему прикоснулся больше многих видящих.
Но для того чтобы все это признать и выявить в сознании церкви, нужно нечто большее, чем справедливость, нужна благодать, нужно чудо прозрения. Это-то чудо и не совершилось в отношении православной церкви к Л. Толстому. А вот в «безбожной» русской интеллигенции, так же как во всем человечестве, которое празднует юбилей Л. Толстого, это чудо совершается или готово совершиться. Зрячие слепнут, прозревают слепые. Кто же из слепых не видит, что вселенский праздник Л. Толстого, «не христианина», есть все-таки праздник вселенского христианства? Кто же из нас не чувствует, что Л. Толстой, ныне величайший из людей на земле, признал бы все свое величие ничтожеством, упал бы к ногам Христа, — а так преклоняться перед Сыном Человеческим не значит ли исповедовать Сына Божьего?
Говорю не от себя одного, но и от многих, для которых, так же как для меня, вопрос о церкви есть вопрос вечного спасения или вечной погибели, для которых разрыв с церковью есть кровавый разрыв. И вот все-таки мы говорим: если вы отлучили от церкви Л. Толстого, то отлучите и нас всех, потому что мы с ним, а мы с ним потому, что верим, что с ним Христос.
Праздник Толстого — единственный в веках и народах.
При жизни венчали доныне такой всемирной славой только героев меча и крови; а героев духа — славой посмертной, лавровым венцом поверх венца тернового. Путь к славе шел через кровь, свою или чужую.
Слава Толстого — первая всечеловеческая слава без крови, первый всечеловеческий праздник «мира и благоволения», первый канун того последнего праздника, когда скажет, наконец, все человечество: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
Но пока нет еще на земле мира без брани, лавра без терна — и вся радость наша в том, что не мы вплели в венец Толстого этот терн. Не мы, а кто же? Он сам, или тот, кто создал его таким, как он есть.
Сегодня, в самый торжественный день славы своей, не чувствует ли он и самую острую боль от этого терна, среди всеобщей радости — безмерную грусть?
Кого мы венчаем? Художника прежде всего. Но он сам растоптал этот венец. И, может быть, его величие в том, что он это сделал: если бы не принес он своего искусства в жертву какой-то высшей святыне, то не был бы таким великим художником.
Но тут между ним и нами все же вечный спор: мы любим в нем то, что он в себе ненавидит, благословляем в нем то, что он в себе проклинает. Ведь если бы нам предстояло сделать окончательный выбор между Толстым-художником и Толстым-пророком, выбор наш оказался бы обратным тому, который сделал он сам: мы не усомнились бы пожертвовать пророком художнику, потому что в искусстве своем он для нас более вещий пророк, хотя, может быть, пророк иного, чем в своих пророчествах.
Но этого-то нам Толстой никогда и не простит, этой-то славы никогда и не примет от нас. И если он сейчас молчит, как будто соглашается, то не потому ли, что есть такой предел несогласия, за которым остается только молчать? Но кажется, вот-вот не выдержит — закричит:
«Не могу молчать! Лучше накиньте намыленную веревку на мою старую шею, чем делать то, что вы со мной делаете!»
Да, нечего себя обманывать: тут, в споре с ним о нем, мы никогда не сговоримся…
«Стоит только людям сговориться» — так начинает и кончает он все свои религиозные проповеди вот уже тридцать лет. Не почувствует ли, наконец, сегодня, что не так-то легко «сговориться людям» и что мешает этому не только злая человеческая воля, но и что-то большее, от людей независимое?
— Любите ли вы меня?
— Любим.
— Верите ли вы мне?
— Верим.
— Почему же не делаете того, что я вам говорю?
— Потому, что мы злы, глупы, слабы и еще почему-то, чего ты, всевидящий, не видишь, всезнающий, не знаешь и что не менее свято для нас, чем для тебя твоя святыня.
— Что же это такое? Скажите.
— Сколько раз говорили! Ты не понял тогда и теперь не поймешь. Да, может быть, и не надо. Будь таким, как есть, и не осуждай нас, не требуй того, чего мы дать не можем.
— Если не можете, я уйду от вас и останусь один.
«Мне надо одному самому жить и одному самому умереть», — признался он однажды, и это, кажется, самое правдивое из всех его признаний.
Сегодня, когда все человечество хочет быть с ним, не чувствует ли он еще безнадежнее свое одиночество? В лучезарной славе — как в лучезарной пустыне.
Не только в жизни, в религии, но и в искусстве Толстого есть уже начало этого одиночества.
Толстой, как художник, тайновидец плоти. Всей плоти, «всей твари, совокупно стенающей об избавлении», голоса перекликаются в его созданиях: в предсмертном бреду князя Андрея и в предсмертном шелесте срубленного дерева, в зверином реве Китти рождающей и в почти человеческом реве быка, которого режут на бойне, в тихом плаче новорожденного и в пушечном грохоте на поле Бородинской битвы, в протяжном крике на «у» Ивана Ильича и в музыке метели, которая сливается с музыкой страсти у Анны Карениной.
Через тайну плоти, тайну животно-стихийную, безликую, касается он и тайны духа, тайны человеческой личности, но именно касается только, не проникая в нее до конца, так что последняя Божеская правда о человеческой личности остается навеки ему недоступною. Подобно херувимам, тварям небесным, «лица свои закрывающим», вся земная тварь у Толстого закрывает лицо свое каким-то прозрачно-темным, звездно-ночным крылом.
Можно бы почти сказать, что во всех произведениях его — одна-единственная личность, один-единственный герой — он сам. От Николеньки до старца Акима, от Левина до Пьера Безухова, от Платона Каратаева до дяди Ерошки — все он же, Толстой. Лицо его отражается во всех этих лицах, как в зеркалах, разлагается на все эти лица, как белый луч солнца на многоцветную радугу.
Если же кто-либо из них дерзает утверждать себя самого как иную, отдельную, Толстому равную личность, то творец казнит непокорную тварь: Наполеон побеждается Кутузовым, купец Брехунов замерзает «раскорякою», как свиная туша, Анна Каренина бросается под поезд, Вронский погрязает в пошлости, Иван Ильич превращается заживо в «кусок разлагающегося мяса».
Так всякому, кто не хочет быть Толстым, Толстой беспощадно мстит. Мне отмщение, и Аз воздам, — Аз или Он, Тот, кто за мной, потому что я и Он — одно, я и Отец — одно. Как будто всем своим героям говорит он: ты — я или ничто. Исполински разросшееся, стихийно-близкое, зверебожеское «я» поглощает все, что «не-я» и что хочет быть иным, отдельным, на других непохожим, единственным человеческим «я». И в конце концов остается он один — «сам он живет и сам один умирает». Он во всех, он во всем. Он и все — Творец и тварь.
Вот отчего ненавидит он или, может быть, просто не видит Шекспира. Ведь главная тайна шекспировского гения есть тайна иной, чужой, отдельной, ни на кого не похожей, единственной человеческой личности. Все толстовские герои, вернее «антигерои», живут в нем, для него; все герои Шекспира живут помимо него, сами для себя. Без Толстого нет Левина, без Шекспира Гамлет есть; Толстой заслоняет Левина, Шекспир заслоняется Гамлетом. Толстой жертвует себе своими героями; Шекспир жертвует собою своим героям. Все движение Толстого центростремительное, от «не-я» к «я»; все движение Шекспира центробежное, от «я» к «не-я». Толстой берет; Шекспир дает. Толстой — наиболее мужественный, Шекспир — наиболее женственный, Толстой — самовластнейший, Шекспир — свободнейший из гениев. Толстой не понял Шекспира; Шекспир понял бы Толстого. В известном смысле, именно в религиозном откровении человеческой личности. Шекспир-язычник ближе ко Христу, чем Толстой-христианин.
И не то же ли, что о героях Шекспира, мог бы он сказать о Прометее Эсхила, о Фаусте Гете, о Каине Байрона, о Заратустре Ницше, — о всех высочайших точках европейского гения, который по преимуществу есть гений личности, самоутверждающейся, бунтующей, богоборческой во временных путях своих, но в вечных целях Богосыновней?
Побеждаемое отрицание как путь к побеждающему утверждению, язычество как путь к христианству, богоборчество как путь к Богосыновству — вот чего Толстой не видит — не видит и потому ненавидит, — отрицает