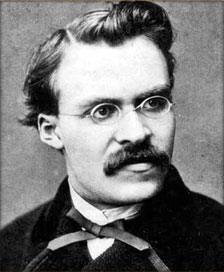под конец всюду таскать с собой невероятное количество неудобоваримых камней знаний, которые впоследствии при случае могут, как говорится в сказке, «изрядно стучать в желудке». Эта стукотня выдает существенное свойство современного человека — удивительное противоречие между внутренней сущностью, которой не соответствует ничто внешнее, и внешностью, которой не соответствует никакая внутренняя сущность, противоречие, которого не знали древние народы. Знание, поглощаемое в избытке не ради утоления голода и даже сверх потребности, перестает действовать в качестве мотива, преобразующего и побуждающего проявиться вовне, и остается скрытым в недрах некоего хаотического внутреннего мира, который современный человек со странной гордостью считает свойственной ему лично «духовностью». В таких случаях обыкновенно говорят: содержание у нас есть, нам не хватает только формы; но для всего живого это совершенно недопустимое противоречие. Наша современная культура именно потому и имеет характер чего-то неживого, что ее совершенно нельзя понять вне этого противоречия, или, говоря иначе, она, в сущности, и не может вовсе считаться настоящей культурой; она не идет дальше некоторого знания о культуре, это мысль о культуре, чувство культуры, она не претворяется в культуру-решимость. То же, что на самом деле действует как мотив, проявляясь в поступке, то является часто не более как безразличной условностью, жалким подражанием или даже грубой гримасой. Внутреннее чувство в этом случае покоится, подобно той змее, которая, проглотив целого кролика, спокойно укладывается на солнце, избегая всяких движений, кроме самых необходимых. Внутренний процесс становится теперь самоцелью: он и есть истинная «культура». Такая культура может вызвать у каждого наблюдателя со стороны лишь одно пожелание — чтобы она не погибла от неудобоваримости своего содержания. Если мы представим себе, что в роли такого наблюдателя является грек, то последний, наверно, пришел бы к заключению, что для новых людей понятия «образованный» и «исторически образованный» переплелись так тесно между собой, как будто бы они были тождественны и отличались друг от друга только числом слов. Если бы он далее к этому прибавил еще, что можно быть очень образованным и не иметь в то же время никакого исторического образования, то многие подумали бы, что они ослышались, и, наверно, в ответ на это только покачали бы головой. Одна довольно известная небольшая народность не очень отдаленного прошлого — я разумею греков — в период своего величайшего могущества сумела упорно сохранить присущее ей неисторическое чувство; если бы современный человек каким-нибудь чудом был перенесен в эту атмосферу, он, по всей вероятности, нашел бы греков очень «необразованными», чем, правда, была бы раскрыта и отдана на всеобщее посмешище столь тщательно скрываемая тайна современного образования, ибо мы, современные, ничего не имеем своего; только благодаря тому, что мы нагружаем и перегружаем себя чужими эпохами, нравами, искусствами, философскими учениями, религиями, знаниями, мы становимся чем-то достойным внимания, а именно, ходячими энциклопедиями, за которые, может быть, нас и принял бы древний эллин, перенесенный в нашу эпоху. Ценность же энциклопедий заключена только в их содержании, т. е. в том, что в них написано, а не в том, что напечатано на обложке, не во внешней оболочке, не в переплете; точно так же и сущность всего современного образования заключается в его содержимом; на обложке же его переплетчик напечатал что-то вроде: «руководство по внутреннему образованию для варваров по внешности». Мало того, это противоречие между внешним и внутренним делает внешнее еще более варварским, чем оно было бы, если бы дело шло о каком-нибудь некультурном народе, развивающемся только из себя сообразно своим грубым потребностям. Ибо, в самом деле, какое средство остается природе, чтобы одолеть массу с излишком притекающего материала? Конечно, только одно — воспринимать этот материал насколько можно легче, чтобы потом тем скорее снова устранить его и от него отделаться. Отсюда возникает привычка oтноситься к действительным вещам несерьезно; на этой почве образуется «слабая личность», вследствие чего действительное, существующее производит только незначительное впечатление; по внешности люди становятся все более пассивными и индифферентными, причем опасная пропасть между содержанием и формой все расширяется до тех пор, пока человек пе сделается совершенно нечувствительным к проявлениям варварства, при условии, однако, чтобы память постоянно возбуждалась, чтобы не прекращался приток новых интересных явлений, которые могли бы быть опрятно разложены по ящикам этой памяти. Культура известного народа, взятая в ее противоположности варварству, была однажды определена не без некоторого основания как единство художественного стиля во всех проявлениях жизни этого народа; определение это, однако, не должно быть понимаемо в том смысле, что здесь имеется в виду противоположность между варварством и прекрасным стилем; народ, за которым признается право на известную культуру, должен только представлять собой в действительности известное живое единство и не распадаться столь безобразно на внешнюю и внутреннюю стороны, на содержание и форму. Кто стремится к развитию культуры известного народа или желает содействовать ей, тот должен стремиться к этому высшему единству и содействовать ему, работая над вытеснением современной образованности истинным образованием; он должен иметь смелость поставить себе ясно вопрос, каким образом может быть восстановлено подорванное историей здоровье народа и как последнему снова обрести свои инстинкты и вместе с ними свою честность.
Я имею в виду при этом главным образом нас, современных немцев, страдающих, более чем какой-либо другой народ, упомянутой слабостью личности и противоречием между содержанием и формой. Форма в глазах наших является лишь простой условностью, как некоторая маска или притворство, и потому она если не внушает прямой ненависти, то, во всяком случае, не пользуется любовью. Еще правильнее было бы сказать, что мы испытываем какой-то необыкновенный страх перед словом «условность», да и перед самим фактом условности. Из-за этого страха немец ушел из школы французов: ибо он хотел стать более естественным и, следовательно, более немцем. Но, по-видимому, он просчитался в этом «следовательно»: освободившись от школы условности, он побрел, как и куда ему казалось более приятным, а проделывал теперь, в сущности неряшливо и безалаберно и как бы спросонья, то же, чему он прежде столь старательно и часто небезуспешно подражал. Так живем мы, по сравнению с прежними временами, и поныне еще среди какой-то развязно-некорректной французской условности, как об этом свидетельствует вся наша манера ходить, стоять, беседовать, одеваться и жить. Думая возвратиться назад, к естественности, мы, в сущности, усвоили себе какую-то халатность, распущенность, желание как можно меньше утруждать себя. Стоит только пройтись по улицам немецкого города, чтобы увидеть, что вся наша условность, в сравнении с национальными особенностями иностранных городов, сказывается только на отрицательной стороне дела — все бесцветно, затаскано, плохо скопировано, небрежно. Каждый действует в силу своего собственного усмотрения, но не в силу мощного продуманного усмотрения, а по правилам, подсказанным прежде всего всеобщей торопливостью и затем всеобщим стремлением не очень обременять себя. Какая-нибудь одежда, изобретение которой не требует особенных усилий мысли, а надевание — особенной затраты времени, другими словами, одежда, заимствованная у иностранцев и сшитая по их образцу возможно небрежно, у немцев сейчас же сходит за дополнение к немецкому национальному костюму. Чувство формы отрицается немцами чуть ли не с насмешкой — ибо ведь у них есть чувство содержания: недаром они славятся как народ внутренней содержательности.
Но эта внутренняя содержательность связана и с одной очень известной опасностью: само содержание, которое, согласно предположению, не проявляется ни в чем вовне, может при случае совершенно улетучиться, а между тем снаружи отсутствие его совершенно не было бы заметно, как незаметно было раньше его присутствие. Но допустим, что немецкий народ очень далек от этой опасности; все-таки иностранцы всегда до известной степени правы, когда они упрекают нас в том, что наша внутренняя содержательность слишком слаба и неупорядоченна, чтобы проявить себя вовне и вылиться в определенную форму. Тем не менее этот внутренний мир может отличаться в высокой степени тонкой восприимчивостью, серьезностью, глубиной, искренностью, добротой и, быть может, более богат, чем у других народов; но как целое он остается слабым, ибо все эти прекрасные отдельные волокна не сплетаются в один мощный узел; поэтому видимое внешнее действие не может считаться проявлением и откровением целого внутреннего мира, а только слабой или грубой попыткой одного такого отдельного волокна выдать себя за целое. Поэтому о немце совершенно нельзя судить по одному его поступку, и индивидуальность его может и после этого поступка оставаться совершенно скрытен. Как известно, немца нужно судить по его мыслям и чувствам, а эти последние высказываются им в настоящее время в его книгах. Если бы только эти самые книги не возбуждали за последнее время, более чем когда-либо, сомнения, продолжает ли действительно эта знаменитая внутренняя содержательность гнездиться в своем недоступном маленьком храме; а то возможна ужасная мысль, что эта внутренняя содержательность в один прекрасный день исчезла и что осталась только одна внешность — та высокомерно неуклюжая и униженно развязная внешность, которая составляет характерную особенность немца. Это было бы почти столь же ужасно, как если бы внутренний мир незаметно был в своем храме подменен другим, поддельным, подкрашенным и накрашенным, и превратился бы в комедианта, если не во что-либо еще худшее; так склонен был, например, думать на основании своего театрально-драматического опыта Грильпарцер, этот созерцательно-спокойный сторонний наблюдатель. «Мы ощущаем с помощью абстракций, — говорит он, — и мы едва ли можем себе представить, как выражается ощущение у наших современников; мы заставляем его проделывать скачки, которых оно теперь само не делает. Шекспир испортил всех нас, новейших писателей».
Это — единичный и, может быть, слишком быстро обобщенный факт; но как ужасно было бы, если бы мы действительно имели право обобщить его, если бы единичные факты такого рода слишком часто попадались на глаза наблюдателю, каким отчаянием тогда звучал бы вывод: мы, немцы, ощущаем с помощью абстракции, мы все испорчены историей, — вывод, который мог бы подорвать в самом корне всякую надежду на грядущую национальную культуру: ибо всякая подобная надежда является продуктом веры в неподдельность и непосредственность немецкого чувства, веры в нетронутость внутреннего мира. К чему еще надеяться, к чему верить, когда самый источник веры и надежды замутился; когда наша внутренняя природа научилась делать скачки, плясать, румяниться, проявлять себя в абстрактной форме и с известным расчетом, постепенно утрачивая способность находить самое себя! И как может великий продуктивный ум долго выдержать среди народа, который не уверен больше в единстве своего внутреннего мира и который распался на две половины: на образованных с искаженным и запутанным внутренним миром и на необразованных с недоступным внутренним миром! Как может