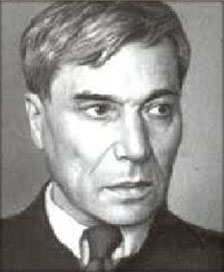а Борис Леонидович взял меня под руку. Мы шли впереди по Страстному бульвару. Он был в прекрасном настроении, возбужден после концерта, весел…»
«На концерте Нейгауза мест свободных не было, и меня по¬садили на эстраду. Гаррик играл сонаты Бетховена. В антракте по¬шла в артистическую. Там, конечно, был Борис Леонидович — вся грудь его пиджака сияла от слез, как в бриллиантах, — он про¬плакал весь концерт, слушая Шопена, Бетховена в исполнении Генриха Густавовича».
«Как-то вечером зашла к Зине. Она, оказывается, уже ушла в гости. Меня встретил Борис Леонидович. Он был в костюме, то¬же собираясь уходить вслед за ней. На голове у него была чалма из полотенца, очевидно, завернул голову после мытья. На сей раз он мне показался необычайно красивым. Смуглый араб в чалме.
И еще как-то раз мне запомнился его облик совсем иным. Он сидел за столом, ворот рубашки был расстегнут, обрамляя краси¬вую мужскую шею. Я обратила внимание на его руки с чуть согну¬тыми пальцами. Мне все было в нем мило. Чувства благодарности, дружбы, восхищения нахлынули на меня. Мой спаситель!
И вот то последнее, сказанное Борисом Леонидовичем:
«Я никогда не лгал, Анна Робертовна. Я не могу лгать!»»
Мария Гонта
МАРТИРИК
Цунами, набегая на берег, обнажает морское дно.
Учебник географии
Осенью 1930 года, по приглашению М. Ф. Андреевой1, Борис Пастернак читал «Спекторского» в зале Дома ученых на Кропот¬кинской. Успех громадный. Тишина. Холодок по спине. Матери¬альное ощущение все возраставшего силового поля между поэтом и аудиторией.
В конце вечера зал, как один человек, встал, ликуя, окружил поэта и двинулся вслед за ним к выходу.
Опьянение поэзией, элевксинские таинства — не миф. Высо¬ко поднятые руки, радостные крики: «Эввива! Эвоэ!» — в перево¬де на русский: «Браво! Здорово! Великолепно!» — эпидемия высо¬кой болезни. Радость дарить и получать, понимать великое на¬слаждение искусством.
Прекрасно счастливое лицо Бориса Пастернака: в нем и сму¬щение, и гордость, и Бодлерово веселье, и озаренность — все сбылось!
Путаясь в лианах хмеля, зал вылился из узкой двери на внут¬ренний дворик клуба. И на прощанье счетчик этой неистовой по¬этической радиации забился еще сильнее. «Вы — замечательный! Чудесный! Самый лучший! Великий! Гениальный поэт!»
Пастернак растроганно и смущенно отрицал эти чрезмерно¬сти жестами, головой. Вдруг рядом девушка закричала: «Вы — первый поэт страны!» И это простое числительное «первый» вдруг резко отрезвило его. Строго он сказал: «Нет, первая — Марина Цветаева».
Никто не знал Марины, не заметил никто, как отключился Пастернак от праздника к уединенности. Напротив, найдя меру оценки, зал, все еще роем, в такт всплескам рук шумел складами: «Са-мый пер-вый! Пер-вый! Са-мый пер-вый поэт страны!»
И еще одно слово разошлось из этого зала, вошло в обиход: интеллектуальная поэзия Пастернака.
Но за официальным занавесом нарастало и прорывалось в пе¬чать какое-то недовольство. Критика в адрес «Спекторского». По¬сле «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» от него жда¬ли чего-то вроде «Семена Проскакова»2. И уже совершенно опре¬деленно репортажа с новостроек, например поэмы о Днепрострое.
Доклад Асеева в декабре 1931 года в деловом зале флигеля Союза писателей на Поварской «О состоянии современной по¬эзии» был прямо направлен против Пастернака.
…Длинный узкий зал был полон. Доклада ждали. Доклад¬чик дошел до кульминации: «Некоторые поэты, как, например, Пастернак, пренебрегают своими общественными обязаннос¬тями, не ездят на новостройки, занимаются кабинетной рабо¬той, им чужд пафос строительства новой жизни, пульс пятиле¬ток…»
В конце зала незаметно открылась дверь. Вошел Пастернак. Слушал. И зал, начиная с задних рядов, — такое не увидишь, — зал тихо встал, обратясь лицом к Пастернаку.
Асеев не сразу понял красноречивую стену спин слушателей, потом вскочил с кафедры и быстрыми шагами стал пробираться по длинному проходу, на ходу меняя выражение лица, раскрыв объятия, заговорил о дружбе.
С неопровержимо мягкой улыбкой и озорным блеском в гла¬зах Пастернак сказал словами Бюффона:
— Да, да, конечно. «Я побью вас палкой, а потом стану уве¬рять в любви».
«Было две знаменитых фразы о времени. Что жить стало луч¬ше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергать¬ся в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей» («Люди и положения»)3.
В 1935 году Пастернак выехал в Париж. Никогда еще пари¬жане не проявляли столько жара и симпатии к русским. Но деле¬гации был дан строгий наказ не якшаться с эмигрантами. А тут…
— В столовую, где мы обедали, вдруг ворвалась Марина Цветаева. Бросилась ко мне. Я представил ее всей остальной де¬легации: Тихонову и другим. Завязалась общая живая беседа. Марина хотела возвратиться в Россию. Я жаждал этого страстно и не мог сказать ей: приезжайте. И не мог объяснить, почему приезжать не надо.
Париж встречал нас восторженно, демонстрации, приветст¬вия, цветы, не только на конгрессе — на улицах, в фойе, в театрах, в гостинице. Русских любили.
«Не жертвуйте лицом ради положения», — мелькнувшее как бы случайно в его речи на Первом съезде писателей становится опорой для него в той неслыханной смелости и благородстве, с которыми пронесет Борис Пастернак свое лицо через деструк¬цию культуры и террор, до самого конца.
В Минске в 1936 году он сказал, что социалистический реа¬лизм надо вести не только от Горького, но от Толстого, от тради¬ций русской классической литературы: он осудил приподнятую фанфарность, балаганность, эстрадность поэзии, когда Безы-менский снова обвинил Пастернака в том, что он «не ездит чи¬тать стихи».
— От нас требуют дела, а мы клянемся в верности, — гово¬рил Пастернак.
Он возражал против рецептов и производственной машин¬ное™ творчества.
— Я не буду повторять вас, я буду спорить.
Он говорил о «следствиях гигантоманических смещений, по отношению к которым каждый из нас не более козявки. Но в какой-то стороне нашего застоя повинны мы сами как чле¬ны корпорации, как атомы общественной ткани». Он еще верил в общество. Призывал к смелости воображения, к риску и душев¬ному самопожертвованию, без которого нет искусства.
— Будьте смелее. Я не помню декрета, который запрещал бы быть гениальным. — Гениальность Пастернак понимал как норму совершенства обыкновенного человека.
Безбожно, кощунственно касаться кратко этой речи и кром¬сать ее цельную непередаваемую художественную и философ¬скую ткань, но это кредо, это ключ к дальнейшему.
Минск — последняя трибуна писателя, — остальные 25 лет мы будем «слушать» его в книгах и поступках.
Впервые Борис Пастернак познакомился с грузинской по¬эзией в 1924 году. В Москву приехал Григорий Робакидзе4. Его называли грузинским Пушкиным.
Был июль. Была жара. Окна квартиры в Мертвом переулке открыты настежь. Врывается разноголосый шум переулка.
Представлялось: грузин с тонкой талией, в черкеске с газы¬рями — огненный Шамиль, а пришел блестящий парижанин, изысканный денди с безукоризненными манерами, в костюме от Ворта или Диора, не менее. Его встречали: Николай Тихонов, еще Серапионов брат, едва хлебнувший «Браги», синеглазый и белокудрый Лель, впервые надевший пролетарскую толстов¬ку — коричневую в рубчик; Дмитрий Петровский в матроске, с трубкой в зубах и серебряною шашкой и песнями червонного казачества; единственный по виду европеец Борис Пастернак, в своем сером ладном пиджачке с узким синим галстуком в мо-рошинку, — по сути ж сущий африканец, стремительный, живой, он жаркими глазами оглядывает гостя, и его приветливость и бурное обаяние речи уже сдружили всех сверканием улыбок и рукопожатий.
Гость предложил стихи по-русски и по-французски.
Борис просил по-грузински.
Гость попросил разрешения у хозяйки.
— Читаю первый раз, — сказал. — Тимур мчит через горы на коне пленницу. Гроза. Погоня. Пропасти.
И тут разверзлось жерло грома. Громче не читал никто. Со¬стязание двух дьяконов у Лескова — просто петушиный писк. Из горла Григория Робакидзе вырывались одни согласные, ко¬роткие, громокипящие, клокочущие и рычащие, но звучали они, как гласные, не слыханные ни на одном языке, ни даже в рычании тигров. Но ритм, бесподобной стройности ритм дер¬жал всю эту орду звуков, живописующих и страстных, в одной узде.
Тимур гнал коня через горы, и тонкой иглой пронзала топот коня жалоба пленницы. Лица слушателей напряжены, руки не¬вольно перебирают поводья.
Мы все скакали в ритме дикого коня, пренебрегая безднами. Скакал конь. Гремела гроза. Хозяйка дрожала поперек седла не только от страха: в переулке, полном праздничного гама, все стихло — гармошка, песни, перебранки. Захлопали ставни и две¬ри. Метались люди. Что случилось?
В топоте Тимурова коня хозяйке слышался топот конной милиции…
…Сыпались камни. Обваливалась дорога. Скакал конь. Гроза гремела. Настигала погоня. Тимур летел через пропасть, роняя пленницу в кипящий котел Дарьяла…
Все долго молчат. Как после бури или кораблекрушения. Не¬бывшее событие — ярче действительности. Какая-то магия, фан¬тасмагория — сейчас сказать бы дьявольская голография — и вме¬сте с тем грубая вещная сила, точно воздушный вихрь пронесся над нашими головами и позвал вслед топоту коня…
С трудом отлепляя язык от гортани — от изнеможения, Борис сказал:
— Стихи для Голиафов пишут прозой, страстями, гибелью. И всем дьявольским оркестром правит копыто коня. Копыто, за¬несенное над Европой.
— Стихи пишут один раз, — сказал Робакидзе, — и один раз читают.
Эпизод казался лишним. Был зачеркнут.
Нет, нет ничего лишнего в жизни Пастернака. Его друзья, его впечатления. Всех нас с того вечера поэма Робакидзе увела на Кавказ.
Пастернак первый, кому должен рассказать о Грузии Нико¬лай Тихонов. Для того, чтобы совершить свое путешествие вмес¬те с ним. Волосы дыбом, красный от загара, как индеец, Тихонов выпаливает свои рассказы, как фейерверки из ракетницы. Никог-да Тихонов не напишет и не расскажет лучше, чем сейчас. Оба по¬эта скачут по Грузии, как два Тимуровых коня. Оранжево-черное пламя Пастернаковых глаз скрещивается с голубым тихонов¬ским. Аж искры сыплются, как бы не загорелась крыша.
— Да, да, Мцхети, пятый век. Там жил Мцыри. <...> Да, да, отсюда пошел Хаджи Мурат.
Тихонов начинает с 1918 года. Воюют богатые уравновешен¬ные меньшевики (князь Церетели) с бедными большевиками: ни денег, ни даже ишака. И тогда ради революции Карташвили ограбил английский банк в Тбилиси. Мешок золота. Напечатали листовки. Добыли оружие и транспорт. Двинулись в горы. Побе¬дила революция.
Эта встреча происходит в 1928 году в столовой Дома ученых, куда Тихонов, едва сойдя с поезда, позвал Бориса Пастернака. Я была третьей.
Тихонов ходил пешком по аулам. Его братски приняли гру¬зинские поэты: Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Григол Абашид¬зе, Иосиф Гришашвили. Знакомые до боли лица! — двумя годами ранее, в 1926 году, мы с Дмитрием Петровским месяц провели в Тбилиси. Комната Табидзе. Кабачок «Симпатия».
Конечно, не потому, что блеснул метеор, астроном изучает небо. Есть глубокие причины событий, есть и поводы, толчки к этим событиям.
Путешествие Пастернака в Грузию, его близкое знакомство с по¬эзией страны было неизбежно по внутренним творческим причинам. Иссякли источники поэзии в России, по собственному его, Пастер¬нака, замечанию, поэтов оставалось двое: отсутствующая