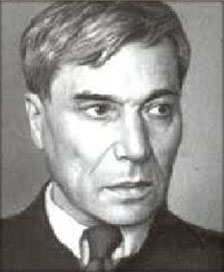как понимать жизнь? Пастернаку тяжело — у него постоянные ссоры с женой. Жена гонит его на собрания, она говорит, что П-к не думает о де¬тях, о том, что такое его замкнутое поведение вызывает подозре¬ния, что его непременно арестуют, если он и дальше будет отси-живаться. Он слушает ее, обыкновенно очень кротко, потом на¬чинает говорить — он говорит, что самое трудное в аресте его для него — это они, оставшиеся здесь. Ибо им ничего не известно и они находятся среди нормальных граждан, а он будет среди та-ких же арестованных, значит, как равный, и он будет все о себе знать… Но он, даже несмотря на это, не может ходить на собра¬ния только затем, чтобы сидеть на них. Он не может изображать из себя общественника, это было бы фальшиво… с этим настрое-нием он пришел ко мне, я, как мог, тоже уговаривал его не отры¬ваться от этого течения жизни — быть не только в природе, но и в людях, тех самых хотя бы, которые строят литературу, и, зная все их слабости, — все же любить их, помогать им.
Он слушал терпеливо, потом опять сошел с этой больной для него темы на вопросы общие, он рассказывал о смерти Толстого и своих ощущениях этого7. Он говорил о маленьких немецких го¬родках, в которых бывал, — тех, где росли Шиллер, Гёте, где за¬кладывались основы культуры… и как странно — у нас ведь почти нет такого понятия, как провинциальный город… Революция сдвинула их с места, ворвалась реконструкция, города меняются и живут сами, как растущий человек. Но все же есть какая-то пре¬лесть прочного существования и в таких вот неподвижных гнез¬дах. Будет время, и у нас потянет людей из Москвы в такие вот ти¬хие сравнительно места, где будут свои обычаи, свои условия и где возможности мирного творчества будут наиболее широко предоставлены поэту. Это он мечтал, конечно, от тоскливой не¬обходимости ехать на собрание, в таком маленьком городке, ве¬роятно, его на собрание не позовут, там и собраний не будет, а просто будут люди встречаться и беседовать об искусстве.
Потом говорили о выборах. На наших глазах происходит смена живых поколений, совсем другие требования предъявля¬ются к людям теперь, теперь настоящий человек социализма — это прежде всего его строитель… конкретный, пусть на самом за-брошенном участке. Конкретность созидания — вот требование к лучшим людям, по которым равняются все. Закономерность смены — о, сколько дутых величин слетело. Навсегда! И многие из них, наверно, как купцы, обижаются — мы столько лет боро-лись за революцию, а нас теперь гонят… А сколько лет вы боро¬лись? Вот вы, гражданин Бубнов?8 Положим, вы вступили в пар¬тию до революции года за три, да гражданской войны три года. Итого шесть лет. Так? Ну, пусть даже раньше вступили — десять лет пусть вы до революции страдали… Хорошо, если вы рассужда¬ете по-купечески, и мы будем купцами. Вы десять лет боролись — и вы получили свое время с процентами: вы двадцать лет были у власти. За каждый год борьбы — два года власти вам было дано! Сто процентов! И как вы использовали это время для дальнейших успехов той самой революции, за которую вы «боролись»? Вы — «развалили дело просвещения, несмотря на громадную помощь Советской власти»! Вы думали за свои десять лет до самой смерти руководить? Так вот же вам! Плохой вы были купец, если так ду¬мали! И пеняйте теперь только на себя!
А те, кто сейчас идут вам на смену, молодые, совсем моло¬дые, совсем новые люди, взращенные революцией и ставшие из¬вестными благодаря ей, — вот они теперь поведут дальше страну. А если и они подгниют — новые их сменят… «Руководители при¬ходят и уходят — один народ бессмертен»…
17/XI
<...> Потом — поездка в город. Толпы людей на улицах, пра¬здничные, оживленные, в магазине запомнилась парочка — во¬шла, смеющаяся, всё спорили о том — 17,50 или 18,20 надо запла¬тить за конфеты — и, споря, смеялись и на всех глядели с доброй Улыбкой. Народ живет и готовится к великой встрече.
И тут — в руках газета, и в ней слова Сталина.
Бывают такие слова, которые врезаются сразу, навеки и как бы освещают молнией все пройденное. Так и здесь, в коротком приветствии угольщикам и металлургам, Сталин сказал: «Руково¬дители приходят и уходят, а народ остается. Только народ бес-смертен. Все остальное — преходяще. Поэтому надо уметь доро¬жить доверием народа». <...>
Обо всем этом и многом другом говорили мы с Пастернаком вечером, когда они пришли к нам коротать время…
Тут ведь ясно — мы сейчас не только живем в историческое время, но сами — объекты исторических дел, и от этого нелепо и смешно жаловаться, что ветер дует слишком сильный, что вооб¬ще не знаешь, за что берут людей… А если бы ты знал, тебе было бы легче? Наоборот — ибо тогда, зная и не говоря об этом кому следует, — ты невольно становишься соучастником их темных дел. Но возможны ошибки… Конечно. И почему-то всегда ты ду¬маешь о возможной ошибке в применении к тебе. Но, во-первых, с тобой еще этой ошибки никто не совершал, а во-вторых, буде она и совершится, — если это ошибка и если ты веришь в спра¬ведливость строя и его дел, — стало быть, она будет исправлена. Пастернак соглашался со мной в этом, но ему казалось, что не ме¬шало бы все же как-то объяснить, куда надо идти, что делать, во избежание этих ошибок. А то ведь, говорил он, получается так, что человек жил и жил, а потом его забирают, говорят, что ты жил грешно, и наказывают. Но он-то ведь мог и не знать, что прежняя его жизнь была не такой, как нужно. Тут перебила Зин. Ник. Ока¬зывается, те самые грузинские поэты, которые сейчас сидят, — вовсе не такие безгрешные лирики, которыми мы их себе пред¬ставляли. Они деньги получали из Турции. Так что критерии гре¬ховности для них самих были, очевидно, в те уже моменты ясны, когда они брали деньги от чужого государства…9
А Пильняк? Но его история с «Красным деревом»10, его поезд¬ки в Японию… Мы все хотим думать о людях лучше, но почему только о тех, которые садятся, а не о тех, которые сажают. Давайте будем справедливы. Равноправие подходов — непременное усло¬вие правильных выводов. Мы так же мало знаем о невиновности Пильняка, как и о его виновности. Но за второе говорит нам то, что тут — громадный аппарат следствия, которое совсем не заинтере¬совано в том, чтобы непременно угробить еще одного писателя.
Тогда сейчас же вопрос поворачивается опять на нас. Вы так же будете говорить и обо мне, если меня возьмут… Ах, мы не знали, а он, оказывается, вон какой… (Пастернак)… Нет, это не так. Разумеется, если сейчас идет генеральная чистка страны — и в наших биографиях могут быть найдены моменты, которые послужат для следствия мотивом допроса. Но тут мы должны то¬же быть хоть немножко более беспристрастны… Вероятно, Яковлеву и Туполеву11 верили больше, чем нам, — и в их био¬графии не заглядывали, но когда оказалось, что они продали и изменили, — как можно верить людям мелким, вроде нас, ес¬ли у нас есть какие-то грешки в прошлом. Как можно знать, действительно, для следователей, заваленных работой, невинен ли А-в или он был глубоко втянут ягодинской компанией? Почему он жил в доме НКВД? Почему его так проработала «Правда»? Почему он дружил с К-ом, ныне забранным? Разве эти вопросы не законны? Разве не нужно выяснить, наконец, кто такая жена А-ва, иностранка, американка12 (это, конечно, лучше, чем немка или полька, но всё же)… Кто такой ее первый муж? Кто ее родители там, что она делает сейчас, зачем приеха¬ла сюда?.. Да ведь масса, масса вопросов естественно возникает, когда начинаешь все проверять… И если меня поставят на эту проверку — вы будете вправе говорить обо мне: «Да, мы ничего не можем сказать, ничего о нем не знаем», — ибо с того момен¬та жизнь и судьба моя в таких надежных руках, которые уже уз¬нают все…
Проговорили до часу. Разошлись, довольные разговором и его результатами… Еще и еще вот так встречаться и говорить. 6/XII
<...> Вчера Пастернак спросил — «пишете ли?». Я промям¬лил что-то о нехватке времени, о том, что занят сейчас собою больше, чем романом. Он кивнул головой, но про себя, вероятно, вздохнул укоризненно… Нельзя пропускать даже дня!
Для романа: Вот такой, как Пастернак. Знакомство с ним. Сначала — набор непонятных фраз, перескоки мысли, жестику¬ляция, мысли набегают, как волны, — одна на другую, и после первого разговора — усталость, как после труднейшей мозговой работы.
Потом новые встречи — разговоры о более простых вещах, простой язык, а дальше — уже самое сложное становится понят¬ным… А сначала удивлялся его жене — как она, простая женщи¬на, все понимает и может даже спорить, а ему приходится напря-гать мозг, чтобы уловить хотя бы логическую связь…
7/XII
Читал Клейста, перевод Пастернака превосходный, четкий, афористический, легкий… «Принц Фридрих Гомбургский» — история молодого человека, который одержал победу на поле сражения вопреки приказу курфюрста и за это должен быть рас¬стрелян, чтобы не подорвалась вера в устои воинского устава… Есть великолепные театральные сцены — например, заседание штаба, когда раздают приказания по частям и принц, заворо¬женный, смотря на Наталью, лишь машинально повторяет кон¬цы фраз относящихся к нему распоряжений, он весь в том, что делает его любовь, как она движется и когда найдет свою пер¬чатку…
Поздно вечером пришел ненадолго сам Пастернак — в серых рваных латаных мужицких штанах и бурых валенках… И эта одеж¬да его смущала, но через минуту он забыл о ней и стал говорить о Клейсте, его жизни, неудачах, самоубийстве, двойном, вместе с возлюбленной, на плотине озера близ Берлина… Он умер моло¬дым, его слава пришла после CMejhrH… Пастернак говорил, я слу¬шал, в камине трещали дрова, Дженни спала около нас на диване. Был миг настоящей сердечной тишины и подлинного покоя.
9/XII
<...> Когда же я начну писать? Я вижу участливые глаза Пас¬тернака — беседы с ним меня воскрешают — он все не устает говорить о великом значении рабочего настроения — тогда все остальное отходит и остается лишь чистое желание писать, созда¬вать образы, творить…
Тамара Иванова
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК
По словам Зинаиды Николаевны, жены Бориса Леонидови¬ча Пастернака, его последними словами были: «Прости» и «Рад». Первое слово не нуждается в пояснениях. Второе Зинаида Нико¬лаевна восприняла как: «Рад, что умираю на твоих,