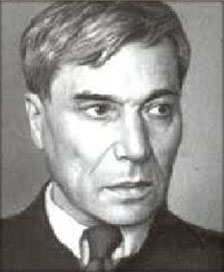белой сирени.
В цветочных магазинах существовала тогда привычка при¬бавлять к сирени еще какие-то зеленые отростки.
В одной из последних корзин, присланных мне Борисом Ле¬онидовичем, кроме сирени был еще буквально огрызок веерной пальмы.
Пересаженная в грунт сирень если и приживалась, то нена¬долго. А вот этот огрызок пальмы, пересаженный Всеволодом в горшок, жив и по сей день.
Начиная с 54-го года Пастернаки тоже прочно обосновались в Переделкине.
Привожу одну из дневниковых записей Всеволода, относя¬щуюся к лету 54-го года.
«Ю/VI. Гроза. Дожди не подряд, а с перерывами. В промежут¬ки грохочет гром, сверкают молнии, — и вся эта дачная местность, с ее домиками, заборами из штакетника, грядками огородными, кустами смородины, зараженными огневкой, раздвигается до пределов необычайных, почти звездных…
Пастернак (встретил его среди сосен, у дороги, где я лежал в траве, он ходил подписываться по телефону на заем).
— Я расскажу тебе почти анекдот. Меня попросили для «Бюллетеня ВОКСа» написать, как я работал над «Фаустом». Я ска¬зал, что работал давно, многое забыл, мне не написать ничего и во¬обще святые истоки я боюсь и трогать. Пусть лучше напишет тот, кто знает перевод, а я, если понадобится, напишу несколько слов послесловия, от переводчика. Ну, написал Вильмонт, очень хоро¬шо, а я приписал следующие мысли: «Фауст — это владение вре¬менем, попытка превратить короткий отрезок времени во что-то длительное, более или менее устойчивое». Я написал это, читаю по телефону сотруднице и спрашиваю: «Понятно?» — «Да, по¬нятно, но ведь у нас переводчики, вот они, не знаю, поймут ли». — «А на каких языках выходит Бюллетень?» — «На англий-ском». — «Знаете что? Давайте я напишу вам то же самое по-анг¬лийски. Я не владею им так же свободно, как русским, но все же…» — «Хорошо». — Написал. Спрашиваю: «Понятно?» Отвеча¬ют: «Да, очень, гораздо лучше, чем по-русски, мы посылаем в на-бор!..» Все это похоже на павловский рефлекс: собака приучена выделять слюну по таким-то и таким звукам метронома. Иначе ей все непонятно. Так и редактор. Действует неподходящий ме¬троном — она не выделяет слюну, а по-английски действует дру¬гой, беззапретный метроном, она по нему привыкла выделять слюну!..»
Летом 55-го года умерла моя мама, Мария Потаповна. Хоро¬нила я ее по православному церковному обряду на переделкин¬ском кладбище.
Во время заупокойной литургии в переделкинской церкви я была поражена тем, что Борис Леонидович пел вместе с хором все церковные песнопения, а при погружении гроба в могилу все литании.
Потом, когда я благодарила его за полное теплого сочувствия участие в маминых похоронах, он выразил большое одобрение тому, что я, не посещающая церкви, похоронила маму по всем правилам.
Думаю, что приводимая ниже записка относится к 55-му или 56-му году, когда Борис Леонидович уже широко давал читать ро¬ман «Доктор Живаго».
«Дорогая Тамара Владимировна! Сердечный привет! Я очень помню замечательный вечер, который я тогда провел у Вас (то, что пишет Кома, т. е. больше: весь Кома был тогда для меня радост-нейшим открытием).
Я хотел повторить удовольствие встречи все равно с какой стороны, но дела у меня складываются хуже, чем я думал, усили¬вая мою озабоченность и торопливость, и, кроме того (но это то же самое), у меня не случилось ничего чрезвычайного, чем бы я заслужил это удовольствие.
Если рукопись моей прозы свободна, то передайте ее, пожа¬луйста, Зине. Если Вам или Коме, или кому-нибудь из Ваших хо¬чется кому-нибудь ее показать, держите, сколько хотите. Кажет¬ся, Всеволода нет в Переделкине, а если он тут, крепко целую его и всем Вашим всего лучшего. Ваш Б. Я».
Поначалу устраивались обсуждения «Доктора Живаго» и даже споры. Всеволод упрекнул как-то Бориса Леонидовича, что после своих безупречных стилистически произведений: «Детство Лю¬верс», «Охранная грамота» и других — он позволяет себе теперь небрежение стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он «нарочно пишет почти как Чарская», его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а «доходчивость», он хочет, что¬бы его роман читался «взахлеб» любым человеком, «даже портни¬хой, даже судомойкой».
Для Всеволода же вопросы мастерства стояли тогда, как и всегда, на первейшем месте. Он непрерывно стремился к от¬крытию тайны того, «как образ входит в образ. И как предмет сечет предмет».
Но Борис Леонидович в тот момент упорно провозглашал, пусть и не достигая желаемого, простоту во имя простоты. Пастер¬нак подразумевал тогда под простотой неповторимость видения, свойственную только данному художнику, с только ему одному при¬сущей образностью, а под сложностью — банальность общих мест.
Теперь же (в конце пятидесятых годов) он действительно впал в ересь упрощенчества (конечно, не в творчестве своем, а только в теоретизировании). Он всерьез развивал перед нами те¬орию о необходимости переиздания всех своих ранних стихов с построчным их прозаическим разъяснением.
В 55-м году (24 февраля) отмечался 60-летний юбилей Всево¬лода. Борис Леонидович не пришел на заседание и банкет в ЦДЛ, но прислал ему телеграмму:
«В великий пост провозглашаю великий тост за дорогого юбиляра и его Тамару чествуем славим шлем привет добрым здоровьем щеголяй сто лет до чрезвычайности тужим что не мо¬жем придти на банкет Зинаида Николаевна с мужем и детьми возражающих нет.
Борис Пастернак»
Давнишняя мечта Всеволода — самая разнообразная литера¬тура. Обилие творческих индивидуальностей, не похожих одна на другую.
Много раз возникали разговоры об организации издательст¬ва «Товарищество писателей». Всеволод был горячим поборни¬ком этой идеи.
Летом 56-го года вновь заговорили об издательстве «Товари¬щества» (которое в созданном проекте носило название «Совре¬менник») и даже прочили Всеволода в председатели правления.
Всеволод охотно соглашался и даже наметил список произве¬дений, которые следует опубликовать: первым в списке стоял роман Пастернака «Доктор Живаго». Нам было известно, что рукопись романа находится в «Новом мире», откуда — ни ответа ни привета.
И вот однажды Пастернак сказал нам, что он получил пись¬мо из «Нового мира», за подписями всех членов редколлегии, во главе с тогдашним главным редактором Константином Симо¬новым, с отказом печатать роман, что письмо — неприятное, «хоть я его и не читал, — заверил нас Борис Леонидович, — и вам читать не советую! (Мы прочитали это письмо только тогда, ког¬да оно было опубликовано в газетах, — уже во времена «травли» за премию.) Там тоже и подпись Кости (Федина), — добавил Пас¬тернак, — но это ничего не значит, я его приглашу в гости, и вы увидите, что все будет как прежде»12.
Вскоре Борис Леонидович пригласил нас на обед.
«19 сентября 1956 г.
Дорогие, дорогие друзья мои Всеволод и Тамара Владимиров¬на! Мы хотим попробовать собраться в воскресенье 23-го в 3 часа дня, за обедом, и просим и ждем Вас обоих.
Кроме того, приписка от себя самого в 1-м лице.
Я также приглашу Константина Александровича с тем же легким сердцем и без задней мысли, как в предыдущие годы, — пусть это Вас не удивляет.
Итак, до скорой встречи. Ваш Б. Пастернак».
Еще в кухне (ближний от нашей лесной калитки вход в дом был через кухню) мы увидели обнимающихся Федина и Пастернака.
Пастернак был очень оживлен, находился в явно приподня¬том настроении.
Он всячески подчеркивал в тот день, что отношение его к Фе-дину нисколько не изменилось, несмотря на то что тот подписал письмо «Нового мира» с отказом печатать «Доктора Живаго».
После отказа «Нового мира» печатать новый роман и наме¬рение его редактирования (с согласия Пастернака, дававшего карт-бланш) отнюдь не было оставлено Всеволодом, искали толь¬ко издателя. Надеялись, что таким издателем явится альманах «Литературная Москва».
«26 сентября 1956г.
Дорогая Тамара Владимировна! Совершенно верно: Акимов попросил у меня почитать роман, и я его уполномочил получить его через Зою Ал.* от Казакевича. Это было давно, и я позабыл об этом.
Как всегда, все сходится. Мне на некоторое время придется расстаться с письмом из Нового Мира. Я только что, наконец, прочел его. Оно составлено очень милостиво и мягко, трудолю¬биво продумано с точек зрения, ставших привычными и кажу¬щихся неопровержимыми, и только в некоторых местах, где об¬суждаются мои мнения наиболее неприемлемые, содержит легко объяснимую иронию и насмешку. Внутренне, то есть под углом зрения советской литературы и сложившихся ее обыкновений, письмо совершенно справедливо. Мне больно и жаль, что я задал такую работу товарищам».
Нельзя не восхититься изяществом и тонким юмором в оцен¬ке Пастернаком письма редколлегии «Нового мира».
«28сент. 1956 г.
Тамара Владимировна, не оставляйте усилий, вызволите от¬куда-нибудь рукопись Всеволода**. Я очень хочу прочесть его ро¬ман. Как только Вы его получите, пришлите его мне.
Я перекинулся двумя-тремя словами с Комой по делу и, когда разговаривал с ним, еще не знал, что он написал несколько очень хороших стихотворений в Коктебеле, о чем я узнал после от Жени.
В следующий раз, когда мы увидимся, напомните мне, чтобы я Вам сказал о моих наблюдениях над нашим воскресным обще¬ством, и Вы услышите кое-что, что Вам и Всеволоду, может быть, будет приятно. Поцелуйте его! Любящий вас обоих Б. П.».
* Зоя Александровна Никитина (Прим. Т. Ивановой). ‘* «Мы идем в Индию» (Прим. Т. Ивановой).
Поначалу 1957 год не принес никаких особых изменений. В конце октября 57-го года мы со Всеволодом, находясь в Юго¬славии, куда поехали на тамошние (сразу несколько) спектакли «Бронепоезда», узнали от одного сербского писателя, что Фельт-ринелли объявил в печати о нахождении у него рукописи романа Пастернака «Доктор Живаго».
Сообщивший нам эту новость писатель не был лично знаком с Пастернаком, но преклонялся перед его поэзией и очень трево¬жился за его судьбу.
Когда находишься за границей, всегда хочется защитить свою родину.
Мы дружно принялись уверять, что все обойдется благополуч¬но, хотя у самих душа была не на месте, так мы взволновались при мысли о возможных последствиях этого шага Бориса Леонидовича. Весь 58-й год мы часто, еще чаще, чем раньше, встречались с Пас¬тернаками. Вместе переживали радость успеха «Доктора Живаго» за границей и тревогу по поводу того, как это отразится на положе¬нии Бориса Леонидовича у нас — в Советском Союзе.
Борис Леонидович был чрезвычайно радушным хозяином. Любил созвать друзей и на славу их угостить.
Мало заботясь об обстановке (и в квартире в Лаврушинском, и в переделкинской даче единственное украшение — развешанные по стенам окантованные рисунки Леонида Осиповича Пастерна¬ка), Борис Леонидович обращал большое внимание на сервиров¬ку стола и собственнолично покупал, даря Зинаиде Николаевне, хрусталь и фарфор.
Застольные тосты Бориса Леонидовича — настоящие произ¬ведения искусства.
Для него это было так:
Со мною сходятся друзья, И наши вечера — прощанья. Пирушки наши — завещанья, Чтоб тайная струя страданья Согрела холод бытия.
Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в даренье.
Прошу читателей не пройти мимо рифмующихся слов: про¬щанья, завещанья и страданья.
Все три требуют расшифровки. Каждая такая пирушка в ту пору могла стать и прощальной, и перед началом «страданий», и несущей в себе зерно «завещательности»