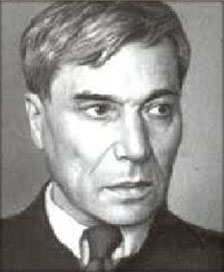Пастернак, П. Антокольский, а также артисты московских театров. Совершенно исключительно прочла пере¬воды Тициана артистка Театра имени Вахтангова Синельникова. Спустя много лет я неожиданно встретила ее на вечере П. Анто-кольского, и мы обе расплакались от нахлынувших воспомина¬ний. Из Москвы мы поехали в Ленинград, где вечер прошел с таким же огромным успехом, как и в Москве. Из русских лите¬раторов в нем приняли участие К. Федин, Ю. Тынянов, Н. Тихо¬нов, Б. Лившиц, В. Каверин, С. Спасский, А. Прокофьев. В один из вечеров нашего пребывания в Ленинграде я с Тициа¬ном и Пастернаками сидели в номере гостиницы и беседовали. У Бориса Леонидовича было очень грустное, подавленное наст¬роение. Но вот разговор зашел о поэзии вообще, а потом о сти¬хах Тициана. Борис заметно оживился. А когда дошло до чтения стихов — грусть его как рукой сняло, человека словно подме¬нили. Читая, он весь горел вдохновением и своим энтузиазмом заражал нас.
В Тбилиси мы снова встретились, когда он приехал в Грузию вместе с бригадой Оргкомитета, по инициативе Горького послан¬ной для изучения грузинской литературы. Бригаду возглавил Павленко, и кроме Пастернака, в нее входили Тихонов, Форш, Гольцев и Тынянов.
Между всеми членами бригады и Тицианом установились удивительно теплые дружеские отношения. Это были сказоч¬ные дни, полные вдохновения, дни бесконечных поэтических встреч.
Однажды бригаду Оргкомитета пригласил к себе Гогла Лео¬нидзе. Здесь во время ужина артисты Руставелевского театра А. Хорава, Восадзе, Эм. Анхаидзе изумительно спели сванский народный гимн солнцу «Лилео». Гимн оставил у русских гостей незабываемое впечатление. Борис Пастернак был настолько по¬ражен и восхищен им, что, как всегда, когда на него музыка дей¬ствовала особенно сильно, глаза его наполнились слезами, и вместе с тем он весь обратился в слух, стремясь запомнить ве-личественный мотив. Об этом гимне писал Тициану спустя не¬сколько лет Павленко, прося достать ему ноты и грузинский текст. В этот приезд Борис Пастернак познакомился с известным грузинским художником Ладо Гудиашвили. Он был у него дома, смотрел картины, познакомился с семьей. Восхищение творче¬ством замечательного художника, любовь к нему и его близким Пастернак сохранил до конца жизни. Семья Гудиашвили отвеча¬ла ему тем же.
Пастернак был какой-то особенный, ни на кого не похожий. Трудно было представить его себе вне поэтического вдохновения. Это в нем покоряло каждого, кто с ним встречался. Поражал он также своим удивительным умением слушать — не из любезнос¬ти, не из вежливости, нет, из человеколюбия, из уважения к чело¬веку, кто бы он ни был. Пастернак умел слушать на редкость вни¬мательно, все запоминая. Он часто потом вспоминал и рассказы¬вал эти случайные разговоры. Он умел заставить другого человека уважать себя, как бы поднимая собеседника в его же собственных глазах.
Надолго запомнился приезд Пастернака в Окрованы. В его честь на большом балконе дома Полторацких был накрыт стол. Весь Тбилиси был виден оттуда как на ладони.
Борис встал лицом к городу, как бы обращаясь к нему, читал стихи:
Пока мы по Кавказу лазаем, И в задыхающейся раме Кура ползет атакой газовою К Арагве, сдавленной горами…
Пока я голову заламываю, Следя, как шеи укреплений Плывут по синеве сиреневой И тонут в бездне поколений,
Пока, сменяя рощи вязовые, Курчавится лесная мелочь, Что шепчешь ты, что мне подсказываешь, — Кавказ, Кавказ, о что мне делать!
Тициан прочитал тогда стихотворение «Маленькие собачки» («Сельская ночь»), а Паоло — Бальмонта: «Я на башню всходил».
В свободные часы Борис любил бродить по улицам Тбилиси. Нередко он начинал читать стихи, и тогда прохожие невольно останавливались, пораженные его вдохновенным лицом. А он, влюбленный буквально в каждого встретившегося ему тбилисца, отвечал им доброй, ласковой улыбкой и увлекал, заражал своим вдохновением. Это были кратковременные, но очень сердечные, надолго запоминавшиеся встречи.
Вообще нужно сказать, что Бориса Пастернака редко поки¬дало вдохновение, такова была особенность его натуры. О чем бы он ни заговаривал, разговор неизбежно переходил к поэзии, даже самая, казалось бы, обыденная тема. И поэтому, когда он гово¬рил, все вокруг невольно попадали под его влияние, подчиняясь его порыву.
Я помню, как часто мы встречались с Пастернаком в Москве в период работы I съезда писателей. Тициан, Пастернак, Тынянов и Бабель держались все время вместе. Речь Тициана на съезде произвела большое впечатление, к нему подходили делегаты, зна¬комились, жали руки7.
В бывшем кафе Филиппова на улице Горького была устроена в дни съезда писательская столовая. Мы с Нитой приехали тогда из Ленинграда. Вечером мы с Тицианом пошли в кафе. Не успели мы войти, как Пастернак с присущей ему непосредственностью воскликнул на весь зал, обращаясь к Федину: «Костя, вот пришла жена Тициана и родственница Нины Грибоедовой». Едва мы сели за стол, он взял Ниту за руку и куда-то увел. Они вернулись спус¬тя час. Оказалось, что Борис Леонидович повел девочку к памят¬нику Пушкина, ему хотелось, чтобы она именно тут, возле памят¬ника, услышала пушкинские стихи. Он рассказывал ей о Пушки¬не и других русских поэтах, читал стихи.
Горький называл тогда Ниту «съездовской дочерью».
В те дни в «Известиях» были напечатаны несколько стихо¬творений Тициана в переводе Пастернака. «Не я пишу стихи…», «Иду со стороны черкесской» и стихотворение Паоло о Ленине8. Леонид Леонов, встретив Тициана на лестнице Дома писателей, остановился, крепко его обнял и сказал: «Как замечательно, что «Известия» опубликовали ваши стихи. И какие стихи! На душе стало светлее».
Вскоре затем Пастернак перевел «Маленьких собачек» и «Окрованы». Последнее Пастернаку особенно нравилось:
Если мужества в книгах не будет, Если искренность слез не зажжет, — Всех на свете потомство забудет И мацонщиков нам предпочтет.
Прочувствованные упоминания крепости Кер-Оглы и Удзо возвращали его к увиденному своими глазами во время пребыва¬ния в Коджорах.
После нашего возвращения из Москвы оживилась перепис¬ка между нами и Пастернаком.
Борис Леонидович очень любил письма Тициана, а одно из них, по его словам, он всегда носил с собой как талисман. Он взял его как самое дорогое, вместе с письмами отца и любимого им по¬эта Рильке, в Париж, когда ехал туда больной на Конгресс куль¬туры. Он писал потом Тициану: «Я часто клал его себе на ночь под подушку, в суеверной надежде, что, может быть, оно мне прине¬сет сон, от недостатка которого я так страдал все лето».
В письме Тициана, в частности, говорилось:
«Круг людей, интересующихся Вами в Грузии, фактически растет, не знаю, чем объяснить это пристальное внимание даже простых грузин к Вам; должно быть, они тоже чувствуют Вашу любовь к Грузии, что до сих пор держится на «Волнах» книги «Второе рождение»».
Ни один наш приезд в Москву не проходил без того, чтобы Пастернаки не пригласили нас в гости и не собрали бы всех наших друзей. За столом происходило нечто вроде литератур¬ных состязаний: каждый поэт старался победить другого своими поэтическими шедеврами. Тициан всегда читал свои стихи по-грузински.
Приезжая в Москву, я очень любила бывать у Пастернака на Волхонке и иногда вечерами запросто заходила к ним. Зимой Зи¬наида Николаевна сама топила печь. Мы садились перед огнем и вели долгие разговоры, чаще всего о семье, о детях. Старший сын Зинаиды Николаевны Адик был смелый мальчик, красивый, он особенно привязался ко мне — мы ведь были знакомы еще по первому приезду Пастернаков в Грузию. Стасик отличался задум¬чивым, тихим нравом, даже говорил очень тихо. Борис нежно лю¬бил сыновей Зины, особенно младшего, будущего талантливого пианиста.
Пока мы с Зиной болтали, Борис работал в своей комнате, он и не знал, что я пришла. Выходя, он очень радовался, видя меня. Как все мужчины, хоть это и приписывают женщинам почему-то, он любил с нами посудачить. А когда я уходила, он шел меня про¬вожать и по дороге часто рассказывал о себе, о своей прежней жизни здесь, на Волхонке, с родителями, о том, как он ушел из родительского дома, хоть родителей очень любил, ушел, потому что доставлял им слишком много хлопот своей личной, для него интересной, но им непонятной жизнью.
Тициан бывал очень рад, когда Борис, проводив меня, захо¬дил к нам в номер гостиницы. У них тут же завязывался разговор о новых стихах, о поэзии, о переводах.
Запомнился мне день 14 января в Москве, день нашей свадь¬бы, рождения Ниты и мои именины. Утром мы с Тицианом вы¬шли в город, чтобы послать дочери телеграмму, а когда вернулись в номер, застали громадную корзину цветов, — целый куст белой сирени — и две красивые палехские коробочки — мне и Ните. Это приходил Борис Леонидович. Он вообще был, нужно сказать, очень внимательным и добрым человеком. Вечером собралось много народу. Пришли Борис с Зиной, Софья Андреевна Толстая (внучка Льва Толстого, вдова Есенина), Борис Пильняк с женой Кирой Андроникашвили, Паоло и другие. Ираклий Андроников в это время выступал, если не ошибаюсь, в Доме искусства. И Бо¬рис должен был туда поехать. Ираклий позвонил, что Бориса ждут, а Борис ответил:
— Я не могу, я у Тициана, я здесь выступаю! Ираклий наста¬ивал, но Борис ему ответил:
— Вы знаете, здесь такая аудитория, Ираклий, я вам тоже со¬ветую сюда поскорее приехать.
Ираклий потом превратил это в очень забавный диалог и да¬же со сцены его рассказывал.
Борис Пастернак и Зина поселились на даче в Переделкине и иногда даже зимой оставались там, и мы часто ездили к ним. Борю хорошо знали все жители поселка.
Как-то раз весною 1937 года Константин Федин, Пильняк и я возвращались из Переделкина в Москву. Неожиданно бросились нам в глаза траурные флаги. Пильняк остановил первого встреч¬ного милиционера и спросил: почему объявлен траур? Милицио¬нер ответил, что умер Серго Орджоникидзе9.
Когда я вошла в номер гостиницы, Тициан беседовал с ре¬портерами французских газет. Мне сразу бросилось в глаза его со¬стояние: видно было, что он едва сдерживается при посторонних. Только я подошла к нему, он расплакался.
В тот же вечер мы выехали в Тбилиси. В дороге Тициан напи¬сал стихотворение «Дагестанская весна».
Плача я становлюсь в их ряды и стою. Горе сердце неистово точит, Точно деревом стал я у скал на краю И на ветках разбухшие почки.
Это было одно из последних его стихотворений.
Когда, после моей трагедии, я осталась одна, на семнадца¬тый день пришла от Бориса телеграмма: «У меня вырезали серд¬це я б не жил но у меня теперь две семьи Зина с Леней и вы с Ни-той»10.
Свое слово он сдержал. В тяжелые годы, вплоть до реабили¬тации Тициана, Борис Леонидович поддерживал нас морально и материально, а потом каждое лето я проводила у них. Он был лучше и добрее родного брата. Я думаю, мало было в то время та¬ких братьев и сестер, которые бы без страха и с такой любовью заботились о близких. Возвращаясь