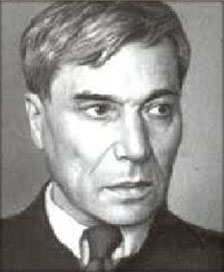старого двора и самонадеянный вследствие своей большой одаренности самородок. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости, они ее исключают. Скорее напротив, зрителю предоставляется судить, как велика жертва Гамлета, если при таких видах на будущее он поступается своими выгодами ради высшей цели.
С момента появления призрака Гамлет отказывается от себя, чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет» не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, не существенно, что напоминание о лживости мира приходит в сверхъестественной форме и что призрак требует от Гамлета мщения. Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» – драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения.
Ритмическое начало сосредоточивает до осязательности этот общий тон драмы. Но это не единственное его приложение. Ритм оказывает смягчающее действие на некоторые резкости трагедии, которые вне круга его гармонии были бы немыслимы. Вот пример.
В сцене, где Гамлет посылает Офелию в монастырь, он разговаривает с любящей его девушкой, которую он растаптывает с безжалостностью послебайроновского себялюбивого отщепенца. Его иронии не оправдывает и его собственная любовь к Офелии, которую он при этом с болью подавляет. Однако посмотрим, что вводит эту бессердечную сцену? Ей предшествует знаменитое «Быть или не быть», и первые слова в стихах, которые говорят друг другу Гамлет и Офелия в начале обидной сцены, еще пропитаны свежей музыкой только что отзвучавшего монолога. По горькой красоте и беспорядку, в котором обгоняют друг друга, теснятся и останавливаются вырывающиеся у Гамлета недоумения, монолог похож на внезапную и обрывающуюся пробу органа перед началом реквиема. Это самые трепещущие и безумные строки, когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти, силою чувства возвышающиеся до горечи Гефсиманской ноты.
Не удивительно, что монолог предпослан жестокости начинающейся развязки. Он ей предшествует, как отпевание погребению. После него может наступить любая неизбежность. Все искуплено, омыто и возвеличено не только мыслями монолога, но и жаром и чистотою звенящих в нем слез.
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
Если так велика роль музыки в «Гамлете», то что скажем мы о «Ромео и Джульетте»? Тема трагедии – первая юношеская любовь и ее сила. Где и разыграться благозвучию и мерности, как не в таком произведении? Но оно нас обманывает. Лиризм совсем не то, что мы думали. Шекспир не пишет дуэтов и арий. С проницательностью гения он идет по совершенно другой дороге.
Назначение музыки в этой вещи отрицательное. Она воплощает в трагедии враждебную любящим силу светской лжи и житейской сутолоки.
До знакомства с Джульеттой Ромео пылает выдуманной страстью к упоминаемой заочно и ни разу не показанной на сцене Розалине. Это романическое ломание в духе тогдашней моды. Оно выгоняет Ромео по ночам на одинокие прогулки, а днем он отсыпается, заслонившись ставнями от солнца. Все первые сцены, пока это продолжается, реплики Ромео написаны неестественными рифмованными стихами. В самой певучей форме Ромео несет все время высокопарный вздор на манерном языке гостиных той эпохи. Но стоит ему впервые на балу увидать Джульетту, как он останавливается перед ней как вкопанный и от его мелодического способа выражаться ничего не остается.
В ряду чувств любовь занимает место притворно смирившейся космической стихии. Любовь так же проста и безусловна, как сознание и смерть, азот и уран. Это не состояние души, а первооснова мира. Поэтому, как нечто краеугольное и первичное, любовь равнозначительна творчеству. Она не меньше его, и ее показания не нуждаются в его обработке. Самое высшее, о чем может мечтать искусство, – это подслушать ее собственный голос, ее всегда новый и небывалый язык. Благозвучие ей ни к чему. В ее душе живут истины, а не звуки.
Как все произведения Шекспира, большая часть трагедии написана белым стихом. В этой форме объясняются герой и героиня. Но размер не подчеркнут в этом стихе и не выпирает. Это не декламация. Форма не заслоняет своим самолюбованием бездонно-скромного содержания. Это пример наивысшей поэзии, которую в ее лучших образцах всегда пропитывают простота и свежесть прозы. Речь Ромео и Джульетты – образец настороженного и прерывающегося разговора тайком, вполголоса. Такой и должна быть ночью речь смертельного риска и волнения. Это будущая прелесть «Виктории» и «Войны и мира» и та же чарующая чистота и непредвосхитимость.
В трагедии оглушительны и повышенно ритмичны сцены уличного и домашнего многолюдства. За окном звенят мечи дерущейся родни Монтекки и Капулетти и льется кровь, на кухне перед нескончаемыми приемами бранятся стряпухи и стучат ножи поваров, и под этот стук резни и стряпни, как под громовой такт шумового оркестра, идет и разыгрывается трагедия тихого чувства, в главной части своей написанная беззвучным шепотом заговорщиков.
«ОТЕЛЛО»
У самого Шекспира не было деления пьес на акты и сцены. Это разбивка позднейших издателей. В ней нет насилия, пьесы сами легко поддаются ей по своему внутреннему членению.
Хотя первоначальные тексты шекспировских драм печатались подряд, без перерывов, отсутствие разделов не мешало им отличаться строгостью построения и развития, в наши дни необычными.
Это в особенности относится к серединам шекспировских драм, содержащим их тематические разработки. Обыкновенно они обнимают третий акт с некоторыми долями второго и четвертого. В пьесах Шекспира они занимают место пружинной коробки в заводном механизме.
В начальных и заключительных частях своих драм Шекспир вольно компонует частности интриги, а потом так же, играючи, разделывается с последними обрывками ее нитей. Его экспозиции и финалы навеяны жизнью и написаны с натуры в форме быстро сменяющих друг друга картин, с величайшею в мире свободой и ошеломляющим богатством фантазии.
Но в средних частях драм, когда узел интриги завязан и начинается его распутывание, Шекспир не дает себе привычной воли и в своей ложной старательности оказывается рабом и детищем века.
Его третьи акты подчинены механизму интриги в степени, неведомой позднейшей драматургии, которую он сам научил смелости и правде. В них царит слишком слепая вера в могущество логики и то, что нравственные абстракции существуют реально. Изображение лиц с правдоподобно распределенными светотенями сменяется обобщенными образами добродетелей или пороков. Появляется искусственность в расположении поступков и событий, которые начинают следовать в сомнительной стройности разумных выводов, как силлогизмы в рассуждении.
В дни Шекспирова детства в английской провинции еще ставили средневековые нравоучительные аллегории. Они дышали формализмом отжившей схоластики. Шекспир ребенком мог видеть эти представления. Старомодная добросовестность его разработок – пережиток пленившей его в детстве старины.
Четыре пятых Шекспира составляют его начала и концы. Вот над чем смеялись и плакали люди. Именно они создали славу Шекспира и заставили говорить о его жизненной правде, в противоположность мертвому бездушию ложноклассицизма.
Но нередко правильным наблюдениям дают неправильные объяснения. Часто можно слышать восторги по поводу «Мышеловки» в «Гамлете» или того, с какой железной необходимостью разрастается какая-нибудь страсть или последствия какого-нибудь преступления у Шекспира. От восторгов захлебываются на ложных основаниях. Восторгаться надо было бы не «Мышеловкою», а тем, что Шекспир бессмертен и в местах искусственных. Восторгаться надо тем, что одна пятая Шекспира, представляющая его третьи акты, временами схематические и омертвелые, не мешает его величию. Он живет не благодаря, а вопреки им.
Несмотря на силу страсти и гения, сосредоточенные в «Отелло», и на его театральную популярность, сказанное в значительной степени относится к этой трагедии.
Вот одна за другой ослепительные набережные Венеции, дом Брабанцио, арсенал. Вот чрезвычайное ночное заседание сената и непринужденный рассказ Отелло о зачатках постепенно зарождающейся взаимности между ним и Дездемоной. Вот картина морской бури у побережий Кипра и пьяной драки ночью в крепости. Вот известная сцена ночного туалета Дездемоны с пением еще более знаменитой «Ивушки» – верх трагической естественности перед страшными красками финала.
Но вот несколькими поворотами ключа Яго в средней части заводит, как будильник, доверчивость своей жертвы, и явление ревности с хрипом и вздрагиванием, как устаревший механизм, начинает раскручиваться перед нами с излишней простотой и слишком далеко зашедшей обстоятельностью. Скажут, что такова природа этой страсти и что это дань условностям сцены, требующей плоской ясности. Может быть. Но вред от этой дани не был бы так велик, если бы ее платил менее последовательный и гениальный художник. В наши дни приобретает особый интерес другая частность.
Случайно ли, что главный герой трагедии – черный, а все, что у него есть дорогого в жизни, – белая? Что значит этот подбор цветов? Означает ли это только то, что права каждой крови на человеческое достоинство одинаковы? Нет, мысли Шекспира, двигавшиеся в этом направлении, шли гораздо дальше.
Идеи равенства наций не было при нем. Жила полною жизнью более всеобъемлющая мысль христианства о другом роде их безразличия. Эту мысль интересовало не то, чем рождался человек, а то, к чему он в жизни приходил и чем становился. Для Шекспира черный Отелло исторический человек и христианин, и это тем более, что рядом с ним белый Яго – необращенное доисторическое животное.
«АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»
У Шекспира есть особняком стоящие трагедии, вроде «Макбета» и «Лира», образующие самобытные миры, единственные в своем роде. Есть комедии, представляющие царство безраздельной выдумки и вдохновения, колыбель будущего романтизма. Есть исторические хроники из английской жизни, пылкие славословия родине, произнесенные величайшим из ее сынов. Часть событий, которые Шекспир описал в этих хрониках, продолжались в событиях окружавшей его жизни, и Шекспир не мог относиться к ним с трезвым беспристрастием.
Таким образом, несмотря на внутренний реализм, проникающий творчество Шекспира, напрасно стали бы мы искать в произведениях перечисленных разрядов объективности. Ее можно найти в его римских драмах.
«Юлий Цезарь» и в особенности «Антоний и Клеопатра» написаны не из любви к искусству, не ради поэзии. Это плоды изучения неприкрашенной повседневности. Ее изучение составляет высшую страсть всякого изобразителя. Это изучение привело к «физиологическому роману» девятнадцатого столетия и составило еще более бесспорную прелесть Чехова, Флобера и Льва Толстого.
Но почему вдохновительницей реализма явилась такая глубокая старина, как Древний Рим? Этому не надо удивляться. Именно своею отдаленностью предмет разрешал Шекспиру называть вещи своими именами. Он мог говорить все, что ему заблагорассудилось, в политическом, нравственном и любом другом отношении. Перед ним был чужой и далекий мир, давно закончивший свое существование, замкнувшийся, объясненный и неподвижный. Какое желание мог он возбуждать? Его хотелось рисовать.
«Антоний и Клеопатра» – роман кутилы и обольстительницы. Шекспир описывает их прожигание жизни в тонах мистерии, как подобает настоящей вакханалии в античном смысле.
Историками записано, что Антоний с товарищами по пирам и Клеопатра с наиболее близкой частью двора не ждали добра от своего возведенного в служение разгула. В предвидении развязки они задолго до нее дали друг другу