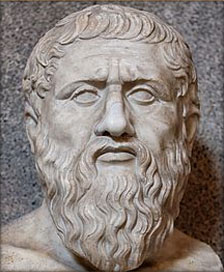по себе». «Но ты, — скажет он, — на вопрос о прекрасном приводишь в ответ нечто такое, что, как ты сам говоришь, прекрасно ничуть не больше, чем безобразно». «Похоже на то»,- скажу я. Что же еще посоветуешь ты мне отвечать, друг мой?
Гиппий. Именно это. Ведь он справедливо скажет, что по сравнению с богами род людской не прекрасен.
Сократ. «Спроси я тебя с самого начала, — скажет он, — что и прекрасно и безобразно одновременно, разве неправилен был бы твой ответ, если бы ты ответил мне то же, что и теперь? Не кажется ли тебе, что, как только прекрасное само по себе, благодаря которому все остальное украшается и представляется прекрасным, — как только эта идея присоединяется к какому-либо предмету, тот становится прекрасной девушкой, кобылицей либо лирой?»
Гиппий. Ну, Сократ, если он это ищет — что такое то прекрасное, благодаря которому украшается все остальное и от соединения с чем представляется прекрасным, — тогда ответить ему очень легко. Значит, этот человек совсем прост и ничего не смыслит в прекрасных сокровищах. Ведь если ты ответишь ему, что прекрасное, о котором он спрашивает, не что иное, как золото, он попадет в тупик и не будет пытаться тебя опровергнуть. А ведь все мы знаем, что если к чему присоединится золото, то даже то, что раньше казалось безобразным, украшенное золотом, представится прекрасным.
Сократ. Ты, Гиппий, не знаешь, как этот человек упорен и как он ничему не верит на слово.
Гиппий. Почему же это, Сократ? Необходимо, чтобы он принимал то, что говорится правильно, иначе он будет смешон.
Сократ. А такой ответ, дорогой мой, он не только не примет, но станет сам смеяться надо мной и скажет. «Ах ты, слепец! Неужто ты Фидия считаешь плохим мастером?» И я, думается мне, скажу: «Нет, нисколько».
Гиппий. И правильно скажешь, Сократ.
Сократ. Конечно, правильно. Но тогда он, после того как я соглашусь, что Фидий — хороший мастер, скажет: «Значит, ты думаешь, что Фидий, не знал того прекрасного, о котором ты говоришь?» Я же отвечу. «Почему?» «Да потому, — скажет он, — что глаза Афины, а также и остальные части лица, и ноги, и руки он изготовил не из золота, а из слоновой кости, тогда как все это, если бы было сделано из золота, должно было казаться всего прекраснее. Ясно, что он сделал такую ошибку по своему невежеству, так как не знал, что золото и есть то самое, что делает прекрасным все, к чему бы оно ни присоединилось». Что нам ответить ему на такие слова, Гиппий?
Гиппий. Ответить вовсе не трудно. Мы скажем, что с Фидий поступил правильно, потому что, по-моему, и то, что сделано из слоновой кости, прекрасно.
Сократ. «Чего же ради, — спросит тот человек, — не изготовил он из слоновой кости также и зрачки глаз, а сделал их из камня, выбрав камень, по возможности похожий на слоновую кость? Или и прекрасный камень прекрасное?» Ответим ли мы на это утвердительно, Гиппий?
Гиппий. Да, конечно, когда камень подходит.
Сократ. «А когда не подходит, это нечто безобразное?» Соглашаться мне или нет?
Гиппий. Соглашайся для тех случаев, когда камень не подходит.
Сократ. «Как же так, — скажет он, — о ты, мудрец, разве слоновая кость и золото не заставляют вещи казаться прекрасными только тогда, когда они подходят, а в противном случае — безобразными?» Будем ли мы отрицать это или признаем, что его слова правильны?
Гиппий. Мы признаем, что каждую вещь делает прекрасной то, что для каждой вещи подходит.
Сократ. «Ну а если, — скажет он, — тот самый прекрасный горшок, о котором мы только что говорили, наполнить и варить в нем прекрасную кашу, какой уполовник к нему больше подойдет: из золота или из смоковницы?»
Гиппий. О Геракл ! Q каком человеке ты говоришь, Сократ? Скажи ты мне, кто он такой?
Сократ. Ты не узнал бы его, если бы я назвал его имя.
Гиппий. Но я и так уже вижу, что это какой-то невежда.
Сократ. Он очень надоедлив, Гиппий, но все-таки, что ж мы ответим? Который из двух уполовников больше подходит к горшку и к каше? Не очевидно ли, что из смоковницы? Ведь он придает каше приятный запах, а вместе с тем, друг мой, он не разобьет горшка, не вывалит каши, не потушит огня и не оставит без знатного кушанья тех, кто собирается угощаться. А золотой уполовник наделал бы нам бед, так что, мне кажется, нам надо ответить, что уполовник из смоковницы подходит больше, чем золотой, если только ты не скажешь иначе.
Гиппий. Подходит-то он, пожалуй, больше, Сократ, но только я не стал бы разговаривать с человеком, задающим такие вопросы.
Сократ. И правильно, друг мой. Действительно, тебе, прекрасно одетому, прекрасно обутому, прославленному своей мудростью среди всех эллинов, пожалуй, не подобает забивать себе голову подобными выражениями. А мне совсем не противно общение с этим человеком. Поэтому поучи меня и ради меня отвечай. «Ведь раз смоковничный уполовник подходит больше, чем золотой, скажет тот человек, — не будет ли он и прекраснее, если ты соглашаешься, Сократ, что подходящее прекраснее, чем неподходящее?» Согласимся ли мы, Гиппий, что смоковничный уполовник прекраснее золотого?
Гиппий. Хочешь, я скажу тебе, Сократ, как тебе нужно определить прекрасное, чтобы избавить себя от излишних разговоров?
Сократ. Конечно, хочу, но только не ранее чем ты мне скажешь, который из обоих только что названных уполовников я должен в своем ответе признать подходящим и более прекрасным.
Гиппий. Если хочешь, отвечай ему, что сделанный из смоковницы.
Сократ. А теперь говори то, что ты только что собирался сказать. Ведь если я утверждаю, что прекрасное — это золото, то при таком ответе, по-моему, золото оказывается нисколько не прекраснее смоковничного бревна. Что же ты скажешь теперь о прекрасном?
Гиппий. Сейчас скажу. Мне кажется, ты добиваешься, чтобы тебе назвали такое прекрасное, которое нигде никогда никому не покажется безобразным.
Сократ. Конечно, Гиппий, ты это теперь прекрасно постиг.
Гиппий. Слушай же и знай: если кто-нибудь найдет, что возразить на это, я скажу, что я ничего не смыслю.
Сократ. Ради богов, говори же как можно скорее!
Гиппий. Итак, я утверждаю, что всегда и везде прекраснее всего для каждого мужа быть богатым, здоровым, пользоваться почетом у эллинов, а достигнув старости и устроив своим родителям, когда они умрут, прекрасные похороны, быть прекрасно и пышно погребенным своими детьми.
Сократ. Ну и ну, Гиппий! Как изумительно, величественно и достойно тебя это сказано! Клянусь Герои , я в восхищении, что ты по мере сил благосклонно мне помогаешь. Но ведь тому-то человеку мы не угодим, и теперь он посмеется над нами как следует, так и знай.
Гиппий. Плохим смехом посмеется, Сократ! Если ему нечего сказать на это, а он все же смеется, то он над собой смеется и станет предметом насмешек для других.
Сократ. Может быть, это и так, а может быть, при таком ответе он, как я предвижу, не только надо мной посмеется.
Гиппий. Что же еще?
Сократ. А то, что, если у него окажется палка, он, если только я не спасусь от него бегством, постарается хорошенько меня хватить.
Гиппий. Что ты говоришь! Что он, этот человек, — твой господин? И если он сделает это, разве не привлекут его к суду и не приговорят к наказанию? Разве нет у вас в государстве законов? Разве оно позволяет гражданам бить друг друга без всякого на то права?
Сократ. Нет, никоим образом.
Гиппий. Тогда, значит, он понесет наказание за то, что ударил тебя без всякого права.
Сократ. Нет, Гиппий, если я так отвечу, он будет прав, так мне думается.
Гиппий. Ну и я того же мнения, Сократ, раз ты сам так думаешь.
Сократ. Сказать ли тебе, почему я сам считаю, что буду бит справедливо, если дам такой ответ? Или и ты начнешь меня бить, не разобравши, в чем дело? А может быть, выслушаешь меня?
Гиппий. Странно было бы, Сократ, если бы я не стал слушать. Но что же ты скажешь?
Сократ. Я буду говорить тебе точно так же, как говорил только что, подражая тому человеку: не стоит обращать к тебе сказанные им мне слова, суровые и необычные. Знай же твердо, он заявит следующее: «Скажи, Сократ, неужели ты думаешь, что не по праву получил палкой, ты, который, спев столь громкий дифирамб, так безвкусно и грубо отклонился от заданного вопроса?» «Каким образом?» — спрошу я. «Каким? — ответит он. — Или ты не в состоянии вспомнить, что я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным — и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание. Ведь я тебя спрашиваю, друг, что такое красота сама по себе, и при этом ничуть не больше могу добиться толку, чем если бы ты был камнем, мельничным жерновом — без ушей и без мозга». А если бы я, испугавшись, сказал ему на это (ты ведь не рассердишься, Гиппий?): «Но ведь Гиппий говорит, что прекрасное есть именно это, хотя я и спрашивал его, как ты меня, что есть прекрасное для всех и всегда»,- что бы ты тогда сказал? Не рассердился бы ты в этом случае?
Гиппий. Я хорошо знаю, Сократ, что то, о чем я говорил, прекрасно для всех и всем будет таким казаться.
Сократ. «И будет прекрасным? — возразит он. — Ведь прекрасное прекрасно всегда».
Гиппий. Конечно.
Сократ. «Значит, оно и было прекрасным?» — спросит он.
Гиппий. И было.
Сократ. «Не сказал ли, — молвит он, — элидскии гость, что и для Ахилла прекрасно быть погребенным позже, чем его предки, и для его деда Эака, и для остальных, кто произошел от богов, и для самих богов?»
Гиппий. Что такое?! Брось ты все это! И произносить-то вслух негоже вопросы, которые задает этот человек!
Сократ Как так? А не будет ли уж совсем невежливо на вопрос другого отвечать, что это так и есть?
Гиппий. Возможно.
Сократ. «Ведь, пожалуй будешь тем, кто утверждает, что для всех и всегда прекрасно прекрасного быть погребенным своими детьми, не есть родителей предать погребению. Или прекрасное Геракл, и все те, кого мы только что называли?»
Гиппий.