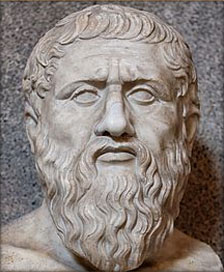тогда, видимо, в платье: и самый лучший ткач пусть носит самый просторный плащ, и разгуливает одетый богаче и красивее всех остальных?
Калликл. При чем тут платье!
Сократ. Ну, а что касается обуви, ясно, что и здесь преимуществом должен пользоваться самый разумный и самый лучший, и, стало быть, сапожник пусть расхаживает в самых громадных башмаках, и пусть их у него будет больше, чем у всех остальных.
Калликл. Какие еще башмаки?! Ты все пустословишь!
Сократ. Ну, если ты не это имеешь в виду, тогда, может быть, вот что: возьмем, к примеру, земледельца, разумного, дельного и честного хозяина земли, — видимо, он должен пользоваться преимуществом в семенах и засевать свое поле особенно густо?
Калликл. Вечно ты твердишь одно и то же, Сократ!
Сократ. Только добавь, Калликл: по одному и тому же поводу.
Калликл. Клянусь богами, без умолку, без передышки ты толкуешь о поварах и лекарях, о башмачниках и сукновалах — как будто про них идет у нас беседа!
Сократ. Тогда сам скажи, про кого. Каким преимуществом должен по справедливости обладать наиболее сильный и разумный? Или же ты и мне не дашь высказаться, и сам ничего не скажешь?
Калликл. Да я только и делаю, что говорю! И прежде всего, когда я говорю о сильных, я имею в виду не сапожников и не поваров, а тех, кто разумен в государственных делах — знает, как управлять государством, — и не только разумен, но и мужествен: что задумает, способен исполнить и не останавливается на полпути из-за душевной расслабленности.
Сократ. Вот видишь, дорогой Калликл, как несхожи наши с тобою взаимные обвинения? Ты коришь меня, что я постоянно твержу одно и то же, а я тебя — наоборот, что ты никогда не говоришь об одном и том же одинаково, но сперва определяешь лучших и сильных как самых крепких, после — как самых разумных, а теперь предлагаешь еще третье определение: оказывается, что сильные и лучшие — это какие-то самые мужественные. Но, милый мой, давай покончим с этим, скажи твердо, кого ты называешь лучшими и сильными и в чем они лучше и сильнее остальных?
Калликл. Но я уже сказал — разумных в делах государства и мужественных. Им-то и должна принадлежать власть в городе, и справедливость требует, чтобы они возвышались над остальными — властители над подвластными.
Сократ. А сами над собою, друг, будут они властителями или подвластными?
Калликл. О чем ты говоришь?
Сократ. О том, насколько каждый из них будет властвовать над самим собою. Или же этого не нужно вовсе — властвовать над собою, нужно только над другими?
Калликл. Как же ты ее понимаешь, власть над собой?
Сократ. Очень просто, как все: это воздержность, умение владеть собою, быть хозяином своих наслаждений и желаний.
Калликл. Ах ты, простак! Да ведь ты зовешь воздержными глупцов!
Сократ. Как это? Всякий признает, что глупцы тут ни при чем.
Калликл. Еще как при чем, Сократ! Может ли в самом деле быть счастлив человек, если он раб и кому-то повинуется? Нет! Что такое прекрасное и справедливое по природе, я скажу тебе сейчас со всей откровенностью: кто хочет прожить жизнь правильно, должен давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их, и как бы ни были они необузданны, должен найти в себе способность им служить (вот на что ему и мужество, и разум!), должен исполнять любое свое желание.
Но конечно, большинству это недоступно, и потому толпа поносит таких людей, стыдясь, скрывая свою немощь, и объявляет своеволие позором и, как я уже говорил раньше, старается поработить лучших по природе; бессильная утолить собственную жажду наслаждений, она восхваляет воздержность и справедливость — потому, что не знает мужества. Но если кому выпало родиться сыном царя или с самого начала получить от природы достаточно силы, чтобы достигнуть власти — тирании или другого какого-нибудь вида господства, что поистине может быть для такого человека постыднее и хуже, чем воздержность? Он может невозбранно и беспрепятственно наслаждаться всеми благами, а между тем сам ставит над собою владыку — законы, решения и поношения толпы!
И как не сделаться ему несчастным по милости этого «блага» — справедливости и воздержности, если он, властвуя в своем городе, не может оделять друзей щедрее, чем врагов?
Ты уверяешь, Сократ, что ищешь истину, — так вот тебе истина: роскошь, своеволие, свобода — в них и добродетель, и счастье (разумеется, если обстоятельства благоприятствуют), а все прочее, все ваши звонкие слова и противные природе условности, — вздор, ничтожный и никчемный!
Сократ. Да, Калликл, ты нападаешь и отважно, и откровенно. То, что ты теперь высказываешь напрямик, думают и другие, но только держат про себя. И я прошу тебя — ни в коем случае не отступайся, чтобы действительно, по-настоящему выяснилось, как нужно жить. Скажи мне: ты утверждаешь, что желания нельзя подавлять, если человек хочет быть таким, каким должен быть, что надо давать им полную волю и всячески, всеми средствами им угождать и что это как раз и есть добродетель?
Калликл. Да, утверждаю.
Сократ. Значит, тех, кто ни в чем не испытывает нужды, неправильно называют счастливыми?
Калликл. В таком случае самыми счастливыми были бы камни и мертвецы.
Сократ. Да, но и та жизнь, о которой ты говоришь, совсем не хороша. Я бы не изумился, если бы Эврипид оказался прав, говоря:
Кто скажет, кто решит, не смерть ли наша жизнь,
Не жизнь ли — смерть?[44 — Здесь цитируется fr. 638 N.-Sn. Еврипида (Полиид). Мотив отождествления жизни и смерти нередок у Еврипида. Ср. fr. 833 N.-Sn. (Фрикс): «Кто знает, не зовется ли жизнь смертью, а смерть жизнью?» Здесь возможны отзвуки знаменитого гераклитовского учения о противоположностях, представляющих собой некое диалектическое единство. Гераклит называет рождение смертью (22 В 21 Diels). Ср.: «Когда человек умер (и погас свет его очей), он жив и ночью зажигает себе свет» (22 В 26 Diels). Далее читаем: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны, жизнь одних есть смерть других; и смерть одних есть жизнь других». Все материальные стихии тоже живут смертью друг друга: «Огонь живет смертью земли; воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля — смертью воды» (22 В 62, 76 Diels).]
Может быть, на самом деле мы мертвые? И правда, как-то раз я слышал от одного мудрого человека, что теперь мы мертвы, и что тело — наша могила[45 — Тело как могила души — идея орфико-пифагорейская, которую можно найти у пифагорейца Филолая (Ю. Италия). Именно у него Платон покупал через Диона пифагорейские книги (44 А 1 Diels) и ездил к нему (А 5 Diels) в Италию. Сам же Филолай жил одно время в Фивах, где его слушал ученик Сократа Кебет (44 A 1a Diels). Платон под мудрым человеком понимает, видимо, Филолая, о чем говорит Климент Александрийский, толкуя данное место «Горгия» (44 В 14 Diels). Здесь же Климент ссылается и на другого пифагорейца, Евксифея, и пишет: «Свидетельствуют также древние теологи и прорицатели, что в наказание за некоторые преступления душа соединена с телом и как в могиле погребена в нем». То, что Платон говорит далее о «незримом мире» и об «обитателях Аида» (493b), тоже имеет отношение к Филолаю, который утверждал, что «все заключено богом как бы в темнице», показывая тем самым «существование единого и высшего, чем материя» (44 В 15 Diels). Представление о жизни как темнице и о теле как могиле души характерно и для орфиков (1 В 3 Diels) с их дуалистическим отделением чистой, божественной души от испорченного и смертного тела. Идея эта была чужда ионийцам. Она порождена орфической космогонией, где из тела и крови растерзанного титанами младенца Диониса происходят люди с их исконным дуализмом доброй и злой природы (см.: fr. 220. Kern). С марксистских позиций освещает воззрения орфиков и происхождение их дуализма Дж. Томсон (Первые философы / Ред. и послесловие А. Ф. Лосева. М., 1959. С. 217–237). Символическая картина жизни как темницы или пещеры, откуда люди наблюдают только за призраками, тенями истинной жизни, дана у Платона (Государство VII 514а — 517b). Понимание Аида как «незримого мира» связано также со старинным этимологическим толкованием слова «аид»: Άίδης ← ά-Fιδης («невидимый»). Отсюда миф о шапке-невидимке бога смерти Аида (см. Ил. V 844 сл.): «Чтоб ее он не видел, дочь Эгиоха-Кронида покрылася шлемом Аида». Однако современная этимология предпочитает связь слова «Аид» с греч. αίανής (*sai-Faνης) «ужасный» (ср. лат. saevus — «жестокий»). См.: Carnoy A. Dictionnaire etymologique de la mythologie greco-romaine. Louvain, 1957, Hades). Автор схолии к этому месту Платона видит в мудром человеке, считающем тело могилой души, сицилийца или италийца, возможно, Эмпедокла. «Он ведь был, — продолжает схолиаст, — пифагореец и родом из Акраганта, города в Сицилии… а вблизи Сицилии — Кротон и Метапонт, города, где учили пифагорейцы, живущие в Италии». В дошедших до нас фрагментах Эмпедокла, правда, нет такого точно высказывания, но, например, в одном из этих фрагментов он «объемлющее душу тело» называет «закрывающей смертных землей» (31 В 148–150 Diels), мы бы сказали — могилой, могильным холмом. Эмпедокл был близок к пифагорейцам, «слушал Пифагора» и «обнародовал учение пифагорейцев» (31 А 1, 54, 55 Diels), а самого Пифагора он именует «человеком необычайного знания», который «обладал в самой высокой степени разнообразной мудростью… и созерцал отдельные явления всего существующего даже за десять и за двадцать человеческих поколений». Вполне возможно, что в этом гераклитовском и орфико-пифагорейском сплаве смерти-жизни есть доля и Эмпедокла.], и что та часть души, где заключены желания, легковерна и переменчива, и что некий хитроумный слагатель притч, вероятно сицилиец или италик, эту часть души, в своей доверчивости очень уж неразборчивую, играя созвучиями, назвал бочкой, а людей, не просвещенных разумом, — непосвященными, а про ту часть души этих непосвященных, в которой живут желания, сказал, что она — дырявая бочка, намекая на ее разнузданность и ненадежность, а стало быть, и ненасытную алчность. В противоположность тебе, Калликл, он доказывает, что меж обитателями Аида — он имеет в виду незримый мир — самые несчастные они, непосвященные, и что они таскают в дырявую бочку воду другим дырявым сосудом — решетом.
Под решетом он понимает душу (так объяснял мне тот мудрец); душу тех, кто не просвещен разумом, он сравнил с решетом потому, что она дырява — не способна ничего удержать по неверности своей и забывчивости.
Вообще говоря, все это звучит несколько странно, но дает понять, о чем я толкую, надеясь по мере моих сил переубедить тебя, чтобы жизни ненасытной и невоздержной ты предпочел скромную, всегда довольствующуюся тем, что есть, и ничего не требующую.
Ну, как, убедил я тебя хоть