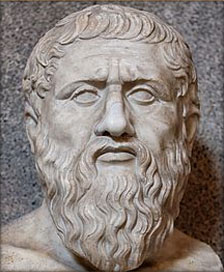безошибочно, и то, что исполнено ошибок!
— Хорошо. Очевидно, мы с тобой согласны: знание и мнение — разные вещи.
— Да, разные.
— Значит, каждое из них по своей природе имеет особую направленность и способность.
— Непременно.
— Знание направлено на бытие, чтобы познать его свойства.
— Да.
— Мнение же, утверждаем мы, направлено лишь на о, чтобы мнить.
— Да.
— Познаёт ли оно то же самое, что и знание? И будет ли одним и тем же познаваемое и мнимое? Или это невозможно?
— Невозможно по причине того, в чем мы были согласны: каждая способность по своей природе имеет свою направленность: обе эти вещи — мнение и знание — не что иное, как способности, но способности различные, как мы утверждаем, и потому нельзя сделать вывод, что познаваемое и мнимое — одно и то же.
— Если бытие познаваемо, то мнимое должно быть чем-то от него отличным.
— Да, оно от него отлично.
— Значит, мнение направлено на небытие? Или небытие нельзя даже мнить? Подумай-ка: разве не относит к какому-либо предмету свои мнения тот, кто их имеет? Или можно иметь мнение, но ничего не мнить?
— Это невозможно.
— Хоть что-нибудь одно все же мнит тот, кто имеет мнение?
— Да.
— Между тем небытие с полным правом можно назвать не одним чем-то, а вовсе ничем.
— Конечно.
— Поэтому к небытию мы с необходимостью отнесли незнание, а к бытию — познание.
— Правильно.
— Значит, мнения не относятся ни к бытию, ни к небытию.
— Да, не относятся.
— Значит, выходит, что мнение — это ни знание, ни незнание?
— Видимо, да.
— Итак, не совпадая с ними, превосходит ли оно отчетливостью знание, а неотчетливостью — незнание?
— Нет, ни в том ни в другом случае.
— Значит, на твой взгляд, мнение более смутно, чем знание, но яснее, чем незнание?
— И во много раз.
— Но оно не выходит за их пределы?
— Да.
— Значит, оно ~- нечто среднее между ними?
— Вот именно.
— Как мы уже говорили раньше, если обнаружится нечто существующее и вместе с тем не существующее, место ему будет посредине между чистым бытием и полнейшим небытием, и направлено на него будет не знание, а также и не незнание, но опять-таки нечто такое, что окажется посредине между незнанием и знанием.
— Это верно.
— А теперь посредине между ними оказалось то, что мы называем мнением.
— Да, оказалось.
— Нам остается, видимо, найти нечто такое, что причастно им обоим — бытию и небытию, но что нельзя назвать ни тем пи другим в чистом виде. Если нечто подобное обнаружится, мы вправе будем назвать это тем, что мы мним; крайним членам мы припишем свойство быть крайними, а среднему между ними — средним. Разве не так?
— Так.
— Положив это в основу, пусть, скажу я, ведет со мной беседу и пусть ответит мне тот добрый человек, который отрицает прекрасное само по себе и некую самотождественную идею такого прекрасного. Он находит, что красивого много, этот любитель зрелищ, и не выносит, когда ему говорят, что прекрасное, так же как справедливое, едино, да и все остальное тоже. «Милейший, — скажем мы ему, — из такого множества прекрасных вещей разве не найдется ничего, что может оказаться безобразным? Или из числа справедливых поступков такой, что окажется несправедливым, а из числа благочестивых — нечестивым? »
— Да, эти вещи неизбежно окажутся в каком-то отношении прекрасными и в каком-то безобразными. Так же точно и остальное, о чем ты спрашиваешь.
— Итак?
— Многим удвоенным вещам разве это мешает оказаться в другом отношении половинчатыми?
— Ничуть.
— А если мы назовем что-либо большим, малым, легким, тяжелым, больше ли для этого оснований, чем для противоположных обозначений?
— Нет, каждой вещи принадлежат оба обозначения.
— Каждая из многих названных вещей будет ли или не будет преимущественно такой, как ее назвали?
— Это словно двусмысленность из тех, что в ходу на пирушках, с или словно детская загадка о том, как евнух хотел убить летучую мышь: надо догадаться, что он бросил и на чем летучая мышь сидела. И здесь все имеет два смысла, и ни о какой вещи нельзя твердо предполагать, что она такая или иная, либо что к ней подходят оба обозначения, или не подходит ни одно из них.
— Что же ты сделаешь с такими обозначениями? Можешь ли ты отвести им лучшее место, чем посредине между бытием и небытием? Они не туманнее небытия и не окажутся еще более несуществующими, чем оно, а с другой стороны, они не яснее бытия и не окажутся более, чем оно, существующими.
— Совершенно верно.
— Значит, мы, очевидно, нашли, что общепринятые суждения большинства относительно прекрасного и ему подобного большей частью колеблются где-то между небытием и чистым бытием.
— Да, мы это нашли.
— А у нас уже прежде было условлено, что, если обнаружится нечто подобное, это надлежит считать тем, что мы мним, а не тем, что познаём, так как то, что колеблется в этом промежутке, улавливается промежуточной способностью.
— Да, мы так условились.
— Следовательно, о тех, кто замечает много прекрасного, но не видит прекрасного самого по себе и не может следовать за тем, кто к нему ведет, а также о тех, кто замечает много справедливых поступков, но не справедливость самое по себе и так далее, мы скажем, что обо всем этом у них имеется мнение, но они не знают ничего из того, что мнят.
— Да, необходимо сказать именно так.
— А что же мы скажем о тех, кто созерцает сами эти [сущности], вечно тождественные самим себе? Ведь они познают их, а не только мнят?
— И это необходимо.
— И мы скажем, что эти уважают и любят то, что они познают, а те — то, что они мнят. Ведь мы помним, что они любят и замечают, как мы говорили, звуки, красивые цвета и тому подобное, но даже не допускают существования прекрасного самого по себе.
— Да, мы это помним.
— Так что мы не ошибемся, если назовем их скорее любителями мнений, чем любителями мудрости? И неужели же они будут очень сердиться, если мы так скажем?
— Не будут, если послушаются меня: ведь не положено сердиться на правду.
— А тех, кто ценит все существующее само по себе, должно называть философами [любителями мудрости], а не любителями мнений.
— Безусловно.
КНИГА ШЕСТАЯ.
[Роль философов в идеальном государстве]
— Насилу-то выяснилось, Главкон, путем длинного рассуждения, кто действительно философ, а кто — нет, и что собой представляют те и другие.
— Пожалуй, — отвечал он, — нелегко было сделать это короче.
— Видимо, нет. К тому же, мне кажется, это выяснилось бы лучше, если бы надо было говорить только об одном, не вдаваясь в разбор многого другого при рассмотрении вопроса, в чем отличие справедливой жизни от несправедливой.
— А что у нас идет после этого?
— Что же иное, кроме того, что следует по порядку? Раз философы — это люди, способные постичь то, что вечно тождественно самому себе, а другие этого не могут и застревают на месте, блуждая среди множества разнообразных вещей, и потому они уже не философы, то спрашивается, кому из них следует руководить государством?
— Как же нам ответить на это подобающим образом?
— Кто выкажет способность охранять законы и обычаи государства, тех и надо назначать стражами.
— Это верно.
— А ясно ли, какому стражу надо поручать любую охрану — слепому или тому, у кого острое зрение?
— Конечно, ясно.
— А чем лучше слепых те, кто по существу лишен : знания сущности любой вещи и у кого в душе нет отчетливого ее образа? Они не способны подобно художникам усматривать высшую истину и, не теряя ее из виду, постоянно воспроизводить ее со всевозможной тщательностью, и потому им не дано, когда это требуется, устанавливать здесь новые законы о красоте, справедливости и благе или уберечь уже существующие.
— Да, клянусь Зевсом, мало чем отличаются они от слепых.
— Так кого же мы поставим стражами — их или тех, кто познал сущность каждой вещи, а вдобавок ничуть не уступает им в опытности да и ни в какой другой части добродетели?
— Было бы нелепо избрать других, когда эти и вообще не хуже да еще вдобавок выделяются таким огромным преимуществом.
— Не указать ли нам, каким образом будут они к состоянии обладать и тем и другим?
— Конечно, это следует сделать.
— В начале этого рассуждения мы говорили, что прежде всего надо разобраться в природе этих людей. Я думаю, если относительно этого мы будем вполне согласны, то мы согласимся и с тем, что такие люди могут обладать обоими указанными свойствами и что руководителями государств надо быть не кому иному, как им.
— Как ты это понимаешь?
[Свойства философской души]
— Относительно природы философов нам надо согласиться, что их страстно влечет к познанию, приоткрывающему им вечно сущее и не изменяемое возникновением и уничтожением бытие, о котором мы говорили.
— Да, с этим надо согласиться.
— И надо сказать, что они стремятся ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной, то есть поступают так, как мы это раньше видели на примере людей честолюбивых и влюбчивых.
— Ты прав.
— Посмотри вслед за этим, необходимо ли людям, д которые должны стать такими, как мы говорим, иметь, кроме того, в своем характере еще и следующее…
— Что именно?
— Правдивость, решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине.
— Естественно, им необходимо это иметь.
— Не только, друг мой, естественно, но и во всех отношениях неизбежно любой человек, если он в силу своей природы охвачен страстным стремлением, ценит псе, что сродни и близко предмету его любви.
— Верно.
— А найдешь ли ты что-либо более близкое мудрости, чем истина?
— То есть как?
— Разве может один и тот же человек любить и мудрость, и ложь?
— Ни в коем случае.
— Значит, тот, кто действительно любознателен, должен сразу же, с юных лет изо всех сил стремиться к истине?
— Да, это стремление должно быть совершенным.
— Но когда у человека его вожделения резко клонятся к чему-нибудь одному, мы знаем, что от этого они слабеют в отношении всего остального — словно поток, отведенный в сторону.
— И что же?
— У кого они устремлены на приобретение знаний и подобные вещи, это, думаю я, доставляет удовольствие его душе, как таковой, телесные же удовольствия для него пропадают, если он не притворно, а подлинно философ.
— Да, это неизбежно.
—