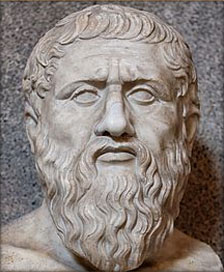не отстраняйся, словно ты уже закончил рассуждение. С нас будет достаточно, если ты разберешь вопрос о благе так, как ты рассматривал справедливость, рассудительность и все остальное.
— Мне же, дорогой мой, этого тем более будет достаточно. Как бы мне только не сплоховать, а то своим нелепым усердием я вызову смех. Но, мои милые, что такое благо само по себе, это мы пока оставим в стороне, потому что, мне кажется, оно выше тех моих мнений, которых можно было достигнуть при нынешнем нашем размахе. А вот о том, что рождается от блага и чрезвычайно на него походит, я охотно поговорил бы, если вам угодно, а если нет, тогда оставим и это.
— Пожалуйста, говори, а о его родителе[226 — Родитель: здесь—то высшее благо, которое в «Тимее» именуется демиургом (ср. выше, прим. 18).] ты нам расскажешь в дальнейшем.
— Хотелось бы мне быть в состоянии отдать вам целиком этот мой долг, а не только проценты, как теперь. Но взыщите пока хоть проценты, то есть то, что рождается от самого блага. Однако берегитесь, как бы я нечаянно не провел вас, представив неверный счет.
— Мы остережемся по мере сил. Но ты продолжай.
— Все же только заручившись вашим согласием и напомнив вам о том, что мы с вами уже говорили , раньше да и вообще нередко упоминали.
— А именно?
— Мы считаем, что есть много красивых вещей, много благ и так далее, и мы разграничиваем их с помощью определения.
— Да, мы так считаем.
— А также, что есть прекрасное само по себе, благо само по себе и так далее в отношении всех вещей, хотя мы и признаем, что их много. А что такое каждая вещь, мы уже обозначаем соответственно единой идее, одной для каждой вещи.
— Да, это так.
— И мы говорим, что те вещи можно видеть, но не мыслить, идеи же, напротив, можно мыслить, но не видеть.
— Конечно.
— Посредством чего в нас видим мы то, что мы видим?
— Посредством зрения.
— И не правда ли, посредством слуха мы слышим все то, что можно слышать, а посредством остальных чувств мы ощущаем все, что поддается ощущению?
— Ну и что же?
— Обращал ли ты внимание, до какой степени драгоценна эта способность видеть и восприниматься зрением, созданная в наших ощущениях демиургом?
— Нет, не особенно.
— А ты взгляни на это вот как: чтобы слуху слышать, а звуку звучать, требуется ли еще нечто третье, да так, что когда оно отсутствует, ничто не слышится и не звучит?
— Ничего третьего тут не нужно.
— Я думаю, что и для многих остальных ощущений — но не для всех — не требуется ничего подобного. Или ты можешь что-нибудь возразить?
— Нет, не могу.
— А разве ты не замечал, что это требуется для зрения и для всего того, что можно видеть?
— Что ты говоришь?
— Какими бы зоркими и восприимчивыми к цвету ни были у человека глаза, ты ведь знаешь, он ничего не увидит и не различит, если попытается пользоваться своим зрением без наличия чего-то третьего, специально для этого псвоим зрением без наличия чего-то третьего, специально для этого предназначенного.
— Что же это, по-твоему, такое?
— То, что ты называешь светом.
— Ты прав.
— Значит, немаловажным началом связуются друг с другом зрительное ощущение и возможность зрительно восприниматься; их связь ценнее всякой другой, потому что свет драгоценен.
— Еще бы ему не быть!
— Кого же из небесных богов можешь ты признать владычествующим над ним и чей это свет позволяет нашему зрению всего лучше видеть, а предметам— восприниматься зрением?
— Того же бога, что и ты, и все остальные. Ведь ясно, что ты спрашиваешь о Солнце.
— А не находится ли зрение по своей природе вот в каком отношении к этому богу…
— В каком?
— Зрение ни само по себе, ни в том, в чем оно, возникает, — мы называем это глазом — не есть Солнце.
— Конечно, нет.
— Однако из орудий наших ощущений оно самое солнцеобразное.
— Да, самое.
— И та способность, которой обладает зрение, уделена ему Солнцем, как некое истечение.
— Конечно.
— Значит, и Солнце не есть зрение. Хотя оно — причина зрения, но само зрение его видит.
— Да, это так.
— Вот и считай, что я утверждаю это и о том, что порождается благом, — ведь благо произвело его подобным самому себе: чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению и зрительно постигаемым вещам.
— Как это? Разбери мне подробнее.
— Ты знаешь, когда напрягаются, чтобы разглядеть предметы, озаренные сумеречным сиянием ночи, а не те, цвет которых предстает в свете дня, зрение притупляется, и человека можно принять чуть ли не за слепого, как будто его глаза не в порядке.
— Действительно, это так.
— Между тем те же самые глаза отчетливо видят предметы, освещенные Солнцем: это показывает, что зрение в порядке.
— И что же?
— Считай, что так бывает и с душой: всякий раз, когда она устремляется туда, где сияют истина и бытие, она воспринимает их и познает, а это показывает ее разумность. Когда же она уклоняется в область смешения с мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет, становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и кажется, что она лишилась ума.
— Похоже на это.
— Так вот, то, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать, это ты и считай идеей блага — причиной знания и познаваемости истины. Как ни прекрасно и то и другое — познание и истина, но если идею блага ты будешь считать чем-то еще более прекрасным, ты будешь прав. Как правильно было считать свет и зрение солнцеобразными, но признать их Солнцем было бы неправильно, так и здесь: правильно считать познание и истину имеющими образ блага, но признать которое-либо из них самим благом было бы неправильно: благо по его свойствам надо ценить еще больше.
— Каким же ты считаешь его несказанно прекрасным, если по твоим словам, от него зависят и познание, и истина, само же оно превосходит их своей красотой! Но конечно, ты понимаешь под этим не удовольствие?
— Не кощунствуй! Лучше вот как рассматривай его образ…
— Как?
— Солнце дает всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и рождение, рост, а также питание, хотя само оно не есть становление.
— Как же иначе?
— Считай, что и познаваемые вещи могут познаваться лишь благодаря благу; оно же дает им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование, оно — за пределами существования, превышая его достоинством и силой.
Тут Главкон очень забавно воскликнул:
— Аполлон! Как удивительно высоко мы взобрались!
— Ты сам виноват, — сказал я, — ты заставляешь меня излагать мое мнение о благе. — И ты ни в коем случае не бросай этого; не говоря уж о другом, разбери снова это сходство с Солнцем — не пропустил ли ты чего.
— Ну, там у меня многое пропущено.
— Не оставляй в стороне даже мелочей!
— Думаю, их слишком много; впрочем, насколько это сейчас возможно, постараюсь ничего не пропустить.
— Непременно постарайся.
[Мир умопостигаемый и мир видимый]
— Так вот, считай, что есть двое владык, как мы и говорили: один —надо всеми родами и областями умопостигаемого, другой, напротив, надо всем зримым — не хочу называть это небом, чтобы тебе не казалось, будто я как-то мудрю со словами. Усвоил ты эти два вида, зримый и умопостигаемый?
— Усвоил.
— Для сравнения возьми линию, разделенную на два неравных отрезка. Каждый такой отрезок, то есть область зримого и область умопостигаемого, раздели опять таким же путем, причем область зримого ты разделишь по признаку большей или меньшей отчетливости. Тогда один из получившихся там отрезков будет содержать образы. Я называю так прежде всего тени, затем отражения в воде и в плотных, гладких и глянцевитых предметах — одним словом, все подобное этому.
— Понимаю.
— В другой раздел, сходный с этим, ты поместишь находящиеся вокруг нас живые существа, все виды растений, а также все то, что изготовляется.
— Так я это и размещу.
— И разве не согласишься ты признать такое разделение в отношении подлинности и неподлинности: как то, что мы мним, относится к тому, что мы действительно знаем, так подобное относится к уподобляемому.
— Я с этим вполне согласен.
— Рассмотри в свою очередь и разделение области умопостигаемого — по какому признаку надо будет ее делить.
— По какому же?
[Беспредпосылочное начало. Разделы умопостигаемого и видимого.]
— Один раздел умопостигаемого душа вынуждена искать на основании предпосылок, пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению. Между тем другой раздел душа отыскивает, восходя от предпосылки к началу, такой предпосылки не имеющему. Без образов, какие были в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она себе путь.[227 — Все предшествующие рассуждения, начиная с 548а, подводят собеседников Сократа к мысли об идее высшего блага, которое ни от чего не зависит, само себя определяет, находясь за пределами бытия (epeceina tês ousias—509b), и является не чем иным, как тем беспредпосылочным началом (archê anypothetos — 510b), которое символически можно выразить в образе Солнца (509а), всё одаряющего, дающего человеку возможность видения мира, но вместе с тем ослепительно недоступного.Идея Солнца как высшего блага была чрезвычайно симптоматична для кануна эллинизма, каковым явилось время написания «Государства». Поздняя античность видела в Солнце объединяющую и организующую весь мир силу в противовес архаической матери-Земле и раннеклассическим четырем элементам (вода, воздух, земля, огонь) натурфилософов.Такую первостепенную роль Солнце получило не сразу. В традиционной генеалогии Гесиода Гея и Уран рождают, среди других своих детей, титанов Гипериона и Фейю (Theog. 132—135), которые, «сочетавшись в любви», в свою очередь рождают Солпце-Гелиоса, Селену-Луну и Эос-Зарю (371—374). У Гомера Гелиос имеет свой остров Тринакию, где пасутся тучные стада быков и овец (Od. XII 380 ел.).Мифологический Гелиос у досократиков отождествлялся с Зевсом (Ферекид А 9), Гефестом, Аполлоном и огнем (Феаген, 2), прямо именуясь у орфиков Гелиосом-Огнем (1 В 21). Он—»владыка» у Эмпедокла (31 В 47) и «отец растений» у Анаксагора (59 А 117), хотя тот же Анаксагор видит в Солнце только «огненную массу» (А 1), а Гераклит говорит: «Солнце не преступит положенной ему меры» (22В94). Скромное место Солнца, хотя оно и «бог» (5 В, la), наглядно выступает у пифагорейцев, в космологической системе которых в центре Вселенной находится мировой огонь —