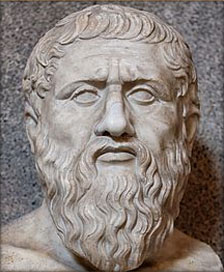три сословия, то и в душе каждого отдельного человека можно различить три начала[293 — О тройственном составе человеческой души см. вып кн. IV, 439 b—441 а и прим. 19.]. Здесь, мне кажется, возможно еще одно доказательство.
— Какое же?
— Следующее: раз в душе имеются три начала, им, на мой взгляд, соответствуют три вида удовольствий, каждому началу свой. Точно так же подразделяются вожделения и власть над ними.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы говорили, что одно начало — это то, посредством которого человек познает, другое — посредством которого он распаляется, третьему же, из-за его многообразия, мы не смогли подыскать какого-нибудь одного, присущего ему, обозначения и потому назвали его по тому признаку, который в нем выражен наиболее резко: мы нарекли его вожделеющим — из-за необычайной силы вожделений к еде, питью, любовным утехам и всему тому, что с этим связано. Сюда относится и сребролюбие, потому что для удовлетворения таких вожделений очень нужны деньги.
— Да, мы правильно это назвали.
— Если бы мы даже про наслаждение и любовь этого начала сказали, что они направлены на выгоду, мы всего более выразили бы таким образом одну из его главных особенностей, так что нам всякий раз было бы ясно, о какой части души идет речь; и, если бы мы назвали это начало сребролюбивым и корыстолюбивым, разве не было бы правильным такое наименование?
— Мне-то кажется, что да.
— Дальше. Не скажем ли мы, что яростный дух всегда и всецело устремлен на то, чтобы взять верх над кем-нибудь, победить и прославиться?
— Безусловно.
— Так что, если мы назовем его честолюбивым и склонным к соперничеству, это будет уместно?
— В высшей степени.
— Ну, а то начало, посредством которого мы познаем? Всякому ясно, что оно всегда и полностью направлено на познание истины, то есть того, в чем она состоит, а о деньгах и молве заботится всего менее.
— Даже совсем не заботится.
— Назвав его познавательным и философским, мы обозначили бы его подходящим образом?
— Конечно.
— Но у одних людей правит в душе одно начало, а у других — другое; это уж как придется.
— Да, это так.
— Поэтому давай прежде всего скажем, что есть три рода людей: одни — философы, другие — честолюбцы, третьи — сребролюбцы.
— Конечно.
— И что есть три вида удовольствий соответственно каждому из этих видов людей.
— Несомненно.
— А знаешь, если у тебя явится желание спросить поочередно этих трех людей, какая жизнь всего приятнее, каждый из них будет особенно хвалить свою. Делец скажет, что в сравнении с наживой удовольствие от почета или знаний ничего не стоит, разве что и из этого можно извлечь доход.
— Верно.
— А честолюбец? Разве он не считает, что удовольствия, доставляемые деньгами, — это нечто пошлое, а с другой стороны, удовольствие от знаний, поскольку наука не приносит почета, — это просто дым?
— Да, он так считает.
— Чем же, думаем мы, считает философ все прочие удовольствия сравнительно с познанием истины — в чем она состоит — и постоянным расширением своих знаний в этой области? Разве он не находит, что все прочее очень далеко от удовольствия? Да и в других удовольствиях он ничуть не нуждается, разве что их уж нельзя избежать: поэтому-то он и называет их необходимыми.
— Это следует хорошо знать.
— А когда под сомнение берутся удовольствия и даже сам образ жизни каждого из трех видов людей — не с точки зрения того, чье существование прекраснее или постыднее, лучше или хуже, а просто спор идет о том, что приятнее и в чем меньше страданий, — как нам узнать, кто из них всего более прав?
— На это я затрудняюсь ответить.
— А ты взгляни вот как: на чем должно основываться суждение, чтобы оно было верным? Разве не на опыте, на разуме и на доказательстве? Или есть лучшее мерило, чем это?
— Нет, конечно.
— Так посмотри: из этих трех человек кто всего опытнее в тех удовольствиях, о которых мы говорили? У корыстолюбца ли больше опыта в удовольствии от познания, когда человек постигает самое истину, какова она, или же философ опытнее в удовольствии от корысти?
— Философ намного превосходит корыстолюбца; ведь ему неизбежно пришлось отведать того и другого с самого детства, тогда как корыстолюбцу, даже если он по своим природным задаткам способен постигнуть сущее, нет необходимости отведать этого удовольствия и убедиться на опыте, как оно сладостно; более того, пусть бы он и стремился к этому, для него это нелегко.
— Стало быть, философ намного превосходит корыстолюбца опытностью в том и другом удовольствии.
— А как насчет честолюбца? Более ли неопытен философ в удовольствии, получаемом от почета, чем тот — в удовольствии от разумения?
— Но ведь почетом пользуется каждый, если достиг своей цели. Многие почитают богатого человека, мужественного или мудрого, так что в удовольствии от почета все имеют опыт и знают, что это такое. А какое удовольствие доставляет созерцание бытия, этого никому, кроме философа, вкусить не дано.
— Значит, из тех трех его суждение благодаря его опытности будет наилучшим.
— Несомненно.
— И лишь один он будет обладать опытностью в сочетании с разумом.
— Конечно.
— Но и то орудие, посредством которого можно судить, принадлежит не корыстолюбцу и не честолюбцу, а философу.
— Какое орудие?
— Мы сказали, что судить надо при помощи доказательств, не так ли?
— Да.
— Доказательства — это и есть преимущественно орудие философа.
— Безусловно.
— Если то, что подлежит суду, судить на основании богатства или корысти, тогда похвала либо порицание со стороны корыстолюбца непременно были бы самыми верными суждениями.
— Наверняка.
— А если судить на основании почета, победы, мужества, тогда, не правда ли, верными были бы суждения честолюбца, склонного к соперничеству?
— Это ясно.
— А если судить с помощью опыта и доказательства?
— То, что одобряет человек, любящий мудрость и доказательство, непременно должно быть самым верным.
— Итак, поскольку имеются три вида удовольствии, значит, то из них, что соответствует познающей части души, будет наиболее полным, и, в ком из нас эта часть преобладает, у того и жизнь будет всего приятнее.
— Как же ей и не быть? Недаром так расценивает свою жизнь человек разумный — главный судья в этом деле.
— А какой жизни и каким удовольствиям отведет наш судья второе место?
— Ясно, что удовольствиям человека воинственного и честолюбивого — они ближе к первым, чем удовольствия приобретателя.
— По-видимому, на последнем месте стоят удовольствия корыстолюбца.
— Конечно.
— Итак, вот прошли подряд как бы два состязания и дважды вышел победителем человек справедливый, а несправедливый проиграл. Теперь пойдет третье состязание[294 — Сократ показал, во-первых, рабское состояние города, не павшего под власть тирана, и жалкую жизнь самого тирана, запуганного своей же властью (577с — 580с); во-вторых, что философ обладает тем высоким удовольствием, которое соответствует разумной части души (580d — 583а); наконец, в-третьих, он собирается доказать, что удовольствие других людей — только тень истинного, чистого удовольствия, доступного философу.Метафора здесь взята от пиршественных возлияний; ср. выше, прим. 59 к диалогу «Филеб».], олимпийское, в честь Олимпийского Зевса: заметь, что у всех, кроме человека разумного, удовольствия не вполне подлинны, скорее они напоминают теневой набросок; так, помнится, я слышал от кого-то из знатоков, — а ведь это означало бы уже полнейшее поражение.
— Еще бы! Но что ты имеешь в виду?
[Удовольствие и страдание. Отличие подлинного удовольствия от простого прекращения страданий]
— Я это найду, если ты мне поможешь своими ответами.
— Задавай же вопросы.
— Скажи-ка, не говорим ли мы, что страдание противоположно удовольствию?
— Конечно.
— А бывает ли что-нибудь ни радостным, ни печальным?
— Бывает.
— Посредине между этими двумя состояниями будет какое-то спокойствие души в отношении того и другого? Или ты это называешь иначе?
— Нет, так.
— Ты помнишь слова больных — что они говорят, когда хворают?
— А именно?
— Они говорят: нет ничего приятнее, чем быть здоровым. Но до болезни они не замечали, насколько это приятно.
— Да, помню.
— И если человек страдает от какой-либо боли, ты слышал, как говорят, что приятнее всего, когда боль прекращается?
— Слышал.
— И во многих подобных же случаях ты замечаешь, я думаю, что люди, когда у них горе, мечтают не о радостях, как о высшем удовольствии, а о том, чтобы не было горя и наступил бы покой.
— Покой становится тогда, пожалуй, желанным и приятным.
— А когда человек лишается какой-нибудь радости, покой после удовольствия будет печален.
— Пожалуй.
— Стало быть, то, что, как мы сейчас сказали, занимает середину между двумя крайностями, то есть покой, бывает и тем и другим, и страданием и удовольствием.
— По-видимому.
— А разве возможно, не будучи ни тем ни другим, оказаться и тем и другим?
— По-моему, нет.
— И удовольствие, возникающее в душе, и страдание — оба они суть какое-то движение. Или нет?
— Да, это так.
— А то, что не есть ни удовольствие, ни страдание, разве не оказалось только что посредине между ними? Это — покой.
— Да, он оказался посредине.
— Так может ли это быть верным — считать удовольствием отсутствие страдания, а страданием — отсутствие удовольствия?
— Ни в коем случае.
— Следовательно, этого на самом деле не бывает, оно лишь таким представляется: покой только тогда и будет удовольствием, если его сопоставить со страданием, и, наоборот, он будет страданием в сравнении с удовольствием. Но с подлинным удовольствием эта игра воображения не имеет ничего общего: в ней нет ровно ничего здравого, это одно наваждение.
— Наше рассуждение это показывает.
— Рассмотри же те удовольствия, которым не предшествует страдание, а то ты, может быть, думаешь, будто ныне самой природой устроено так, что удовольствие — это прекращение страдания, а страдание — прекращение удовольствия.
— Где же существуют такие удовольствия и в чем они состоят?
— Их много, и притом разных, но особенно, если хочешь это понять, Возьми удовольствия, связанные с обонянием[295 — Об удовольствиях от запахов см. также «Филеб», прим 46.]: мы испытываем их вдруг, без всякого предварительного страдания, а когда эти удовольствия прекращаются, они не оставляют по себе никаких мучений.
— Сущая правда.
— Стало быть, мы не поверим тому, будто прекращение страдания — это удовольствие, а прекращение удовольствия — страдание.
— Не поверим.
— Однако так называемые удовольствия, испытываемые душой при помощи тела, — а таких чуть ли не большинство, и они едва ли не самые сильные, — как раз и относятся к этому виду, иначе говоря, они возникают как прекращение страданий.
— Это правда.
— Не так же ли точно обстоит дело и с предчувствием будущих удовольствий