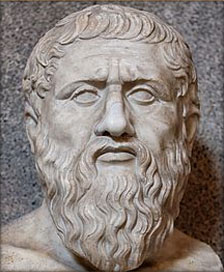и страданий, иначе говоря, когда мы заранее испытываем радость или страдаем?
— Да, именно так.
— Знаешь, что это такое и на что это очень похоже?
— На что?
— Считаешь ли ты, что в природе действительно есть верх, низ и середина?
— Считаю, конечно.
— Так вот, если кого-нибудь переносят снизу к середине, не думает ли он, по-твоему, что поднимается вверх, а не куда-нибудь еще? А остановившись посредине и оглядываясь, откуда он сюда попал, не считает ли он, что находится наверху, а не где-нибудь еще, — ведь он не видел пока подлинного верха?
— Клянусь Зевсом, по-моему, такой человек не может думать иначе.
— Но если бы он понесся обратно, он считал бы, что несется вниз, и правильно бы считал.
— Конечно.
— С ним бы происходило все это потому, что у него нет опыта в том, что такое действительно верх, середина и низ.
— Это ясно.
[Без знания истины невозможно отличить подлинное удовольствие от мнимого]
— Удивишься ли ты, если люди, не ведающие истины относительно многих других вещей, не имеют здравых мнений об этом? Насчет удовольствия, страдания и промежуточного состояния люди настроены так, что, когда их относит в сторону страдания, они судят верно и подлинно страдают, но, когда они переходят от страдания к промежуточному состоянию, они очень склонны думать, будто это способствует удовлетворению и радости. Можно подумать, что они глядят на серое, сравнивая его с черным и не зная белого, — так заблуждаются они, сравнивая страдание с его отсутствием и не имея опыта в удовольствии.
— Клянусь Зевсом, меня это не удивило бы, скорее уж если бы дело обстояло иначе.
— Вдумайся вот во что: голод, жажда и тому подобное — разве это не ощущение состояния пустоты в нашем теле?
— Ну и что же?
— А незнание и непонимание — разве это не состояние пустоты в душе?
— И даже очень.
— Подобную пустоту человек заполнил бы, приняв пищу или поумнев.
— Конечно.
— А что было бы подлиннее: заполнение более действительным или менее действительным бытием?
— Ясно, что более действительным.
— А какие роды [вещей] считаешь ты более причастными чистому бытию? Будут ли это такие вещи, как, например, хлеб, напитки, приправы, всевозможная пища, или же это будет какой-то вид истинного мнения, знания, ума, вообще всяческого совершенства? Суди об этом вот как: то, что причастно вечно тождественному, подлинному и бессмертному, само тождественно и возникает в тождественном, не находишь ли ты более действительным, чем то, что причастно вечно изменчивому и смертному, само таково и в таком же и возникает?
— Вечно тождественное много действительнее.
— А сущность не-тождественного разве более причастна бытию, чем познанию?
— Вовсе нет.
— Что же? А истине она больше причастна?
— Тоже нет.
— Если же она меньше причастна истине, то не меньше ли и бытию?
— Непременно.
— Значит, всякого рода попечение о теле меньше причастно истине и бытию, чем попечение о душе?
— Гораздо меньше.
— Не думаешь ли ты, что то же самое относится к самому телу сравнительно с душой?
— По-моему, да.
— Значит, то, что заполняется более действительным и само более действительно, в самом деле заполняется больше, чем то, что заполняется менее действительным и само менее действительно?
— Как же иначе?
— Раз бывает приятно, когда тебя наполняет что-нибудь подходящее по своей природе, то и действительное наполнение чем-то более действительным заставляло бы более действительно и подлинно радоваться подлинному удовольствию, между тем как добавление менее действительного наполняло бы менее подлинно и прочно и доставляло бы менее достоверное и подлинное удовольствие.
— Это совершенно неизбежно.
— Значит, у кого нет опыта в рассудительности и добродетели, кто вечно проводит время в пирушках и других подобных увеселениях, того, естественно, относит вниз, а потом опять к середине, и вот так они блуждают всю жизнь. Им не выйти за эти пределы: ведь они никогда не взирали на подлинно возвышенное и не возносились к нему, не наполнялись в действительности действительным, не вкушали надежного и чистого удовольствия; подобно скоту они всегда смотрят вниз, склонив голову к земле… и к столам: они пасутся, обжираясь и совокупляясь, и из-за жадности ко всему этому лягают друг друга, бодаясь железными рогами, забивая друг друга насмерть копытами — все из-за ненасытности, так как они не заполняют ничем действительным ни своего действительного начала, ни своей утробы[296 — Подобный же образ есть в «Горгии» (493b), где люди, не просвещенные разумом, разнузданные и алчные, сравнивают с дырявой бочкой.].
— Великолепно,— сказал Главкон,— словно прорицатель, изображаешь ты, Сократ, жизнь большинства.
— И разве не неизбежно примешиваются к удовольствиям страдания? Хотя это только призрачные образы подлинного удовольствия, при сопоставлении с ним оказывающиеся более бледными по краскам, тем не менее они производят сильное впечатление, приводят людей в неистовство, внушают безумцам страстную в них влюбленность и служат предметом раздора: так, по утверждению Стесихора, сражались под Троей мужи лишь за призрак Елены, не ведая правды[297 — О Стесихоре и его палинодии Елене см. также т. 2, прим. 25 к диалогу «Федр».].
— Да, это непременно должно было быть чем-то подобным.
— Что же? Разве не вызывается нечто подобное и яростным началом нашей души? Человек творит то же самое либо из зависти — вследствие честолюбия, либо прибегает к насилию из-за соперничества, либо впадает в гнев из-за своего тяжелого нрава, когда бессмысленно и неразумно преследует лишь одно: насытиться почестями, победой, яростью.
— И в этом случае все это неизбежно.
— Так что же? Отважимся ли мы сказать, что даже там, где господствуют вожделения, направленные на корыстолюбие и соперничество, если они сопутствуют познанию и разуму и вместе с ними преследуют удовольствия, проверяемые разумным началом, они все же разрешатся в самых подлинных удовольствиях, поскольку подлинные удовольствия доступны людям, добивающимся истины? Это были бы соответствующие удовольствия, ибо что для кого-нибудь есть наилучшее, то ему всего более и соответствует.
— Да, соответствует всего более.
[Самые подлинные удовольствия — у души, следующей за философским началом]
— Стало быть, если вся душа в целом следует за своим философским началом и не бывает раздираема противоречиями, то для каждой ее части возможно не только делать все остальное по справедливости, но и находить в этом свои особые удовольствия, самые лучшие и по мере сил самые истинные.
— Совершенно верно.
— А когда возьмет верх какое-нибудь другое начало, то для него будет невозможно отыскать присущее ему удовольствие, да и остальные части будут вынуждены стремиться к чуждому им и не истинному.
— Это так.
— И чем дальше отойти от философии и разума, тем больше это будет происходить.
— Да, намного больше.
[Два полюса: тиранические и царственные вожделения и удовольствия]
— А всего дальше отходит от разума то, что отклоняется от закона и порядка.
— Это ясно.
— Уже было выяснено, что всего дальше отстоят от разума любовные и тиранические вожделения.
— Да, всего дальше.
— А всего ближе к нему вожделения царственные и упорядоченные.
— Да.
— Всего дальше, я думаю, отойдет от подлинного и собственного своего удовольствия тиран, а всего ближе к нему будет царь.
— Неизбежно.
— Значит, тиран будет вести жизнь, совсем лишенную удовольствий, а у царя их будет много.
— Да, и это совсем неизбежно.
— А знаешь, во сколько раз меньше удовольствий в жизни тирана, чем у царя?
— Скажи мне, пожалуйста, ты.
— Существуют, как видно, три вида удовольствий: один из них — подлинный, два — ложных. Тиран, избегая закона и разума, перешел в запредельную область ложных удовольствий. Там он и живет, и телохранителями ему служат какие-то рабские удовольствия. Во сколько раз умалились его удовольствия, не так-то легко сказать, разве что вот как…
— Как?
— После олигархического человека тиран стоит на третьем месте, а посредине между ними будет находиться демократ.
— Да.
— И сравнительно с подлинным удовольствием у тирана, считая от олигарха, получится уже третье призрачное его подобие, если верно все сказанное нами раньше.
— Да, это так.
— Между тем человек олигархический и сам-то стоит на третьем месте от человека царственного, если мы будем считать последнего тождественным человеку аристократическому.
— Да, на третьем.
— Значит, трижды три раза — вот во сколько раз меньше, чем подлинное, удовольствие тирана.
— По-видимому.
— Значит, это призрачное подобие было бы [квадратной] плоскостью, выражающей размер удовольствия тирана.
— Верно.
— А если взять вторую и третью степень, станет ясно, каким будет расстояние, отделяющее тирана [от царя].
— По крайней мере ясно тому, кто умеет вычислять.
— Если же кто в обратном порядке станет определять, насколько отстоит царь от тирана в смысле подлинности удовольствия, то, доведя умножение до конца, он найдет, что царь живет в семьсот двадцать девять раз приятнее, а тиран во столько же раз тягостнее.
— Ты сделал поразительное вычисление! Вот как велика разница между этими двумя людьми, то есть между человеком справедливым и несправедливым, в отношении к удовольствию и страданию.
— Однако это число верно и вдобавок оно подходит к [их] жизням, поскольку с ними находятся в соответствии сутки, месяцы и годы[298 — Платон, как это для него чрезвычайно характерно, очень часто передает моральные качества и состояние человека посредством геометрических фигур, требующих простейших арифметических расчетов. Здесь перед нами Сократ рисует разные форм правления и типы удовольствий, которыми обладает тот или иной правитель, причем выясняется, насколько подлинное удовольствие царя превышает так называемое удовольствие тирана. Счастье тирана есть лишь тень тени истинного счастья и может быт выражено только квадратом, сторона которого равна 9, а площадь — числу 81. Однако, чтобы выразить всю глубину падения тирана или, что то же самое, всю глубину царственного удовольствия, необходимо создание тела с тремя измерениями, т. e. куб (9х9х9=729).Итак, мы имеем следующие пропорции: 9: 81: 729. Царственное счастье, следовательно, в 729 раз превосходит удовольствие тирана. Это число, по Платону, соответствует сумме чисел дней и ночей в году: 364 1/2 + 364 1/2 (ср. Филолай, 44 А 22). Но это же число выражает так называемый большой год, согласно пифагорейцу Филолаю (см. там же), состоящий из 59 лет и 21 добавочного месяца, что всего составляет 729 месяцев; возможно, здесь имеется в виду именно этот большой год.Что касается жизней, то, может быть, жизнь царя равна числу 729, разделенному на 12 месяцев, т. e. приблизительно 67 годам, что превышает обычно отмеряемые античностью годы полной жизни — 60 лет.].
— Да, в соответствии.
— Если даже в смысле удовольствия хороший и справедливый человек стоит настолько выше человека подлого и несправедливого, то насколько же выше будет он по благообразию своей жизни, по красоте и . добродетели!
— Клянусь Зевсом, бесконечно выше.
[Недостаточность показной