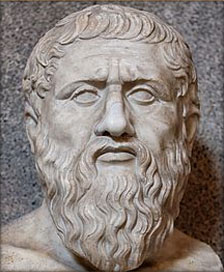Гермоген[73 — Афинянин, известный своею серьезностью и благочестивостью; по неведомым причинам был лишен отцом наследства. Входил в кружок сократовцев и присутствовал при смерти Сократа в темнице.], сын Гиппоника, его друг, сообщил о нем такие подробности, из которых видно, что этот высокомерный язык был сообразен его образу мыслей. Гермоген, по его словам, заметив, что Сократ говорит обо всем больше, чем о своем процессе, сказал:
— Не следует ли, однако, Сократ, подумать тебе и о том, что говорить в свою защиту? Сократ сперва отвечал:
— А разве, по-твоему, вся моя жизнь не была подготовкой к защите? Гермоген спросил его:
— Как это? Сократ отвечал:
— Я во всю жизнь не сделал ничего несправедливого: это я считаю лучшей подготовкой к защите.
— Разве ты не знаешь афинских судов? — сказал опять Гермоген. — Часто судьи, раздраженные речью, выносят смертный приговор людям ни в чем не виновным; часто, напротив, оправдывают виновных, потому что они своими речами разжалобят их, или потому, что они говорят им приятные вещи.
— Нет, клянусь Зевсом, — возразил Сократ, — дважды уже я пробовал обдумывать защиту, но мне противится бог[74 — Очевидно, через посредство все того же Гения, внутреннего голоса Сократа.].
— Удивительно! — сказал Гермоген.
— Разве ты находишь удивительным, — сказал Сократ, — что, и по мнению бога, мне уже лучше умереть? Разве ты не знаешь, что до сих пор я никому на свете не уступал права сказать, что он жил лучше меня? У меня было сознание — чувство в высшей степени приятное, — что вся жизнь мною прожита благочестиво и справедливо; таким образом, я и сам был доволен собою, и находил, что окружающие меня — такого же мнения обо мне. А теперь, если еще продлится мой век, я знаю, мне придется выносить невзгоды старости — буду я хуже видеть, хуже слышать, труднее будет мне учиться новому, скорее буду забывать, чему научился прежде. Если же я буду замечать в себе ухудшение и буду ругать сам себя, какое будет мне удовольствие от жизни? Но, может быть, и бог по милости своей дарует мне возможность окончить жизнь не только в надлежащий момент жизни, но и, возможно, легче. Если приговор будет обвинительный, то, несомненно, мне можно будет умереть такой смертью, которую люди, ведающие это дело, считают самой легкой, которая доставляет меньше всего хлопот друзьям и возбудит больше всего сожаления об умирающем. Когда человек не оставляет в умах окружающих памяти о чем-то недостойном и тягостном, а увядает с телом здоровым и с душой, способной любить, разве возможно, чтобы он не возбуждал сожаления? Правы были боги, которые тогда были против того, чтобы я обдумывал речь, когда мы считали необходимым отыскивать всячески средства к оправданию. Ведь если бы этого я добился, то, несомненно, вместо того, чтобы теперь же оставить жизнь, я приготовил бы себе необходимость умереть или в страданиях от болезней, или от старости, в которую стекаются все невзгоды и которая совершенно безрадостна. Нет, клянусь Зевсом, Гермоген, я к этому даже и стремиться не буду; напротив, если судьям неприятно слушать мои объяснения о том, сколько прекрасных даров, по моему мнению, пало мне на долю и от богов, и от людей и какое мнение я имею сам о себе, то я предпочту умереть, чем, униженно выпрашивая, как нищий, прибавку к жизни, иметь в барышах гораздо худшую жизнь вместо смерти.
Приняв такое решение, рассказывал Гермоген, Сократ в ответ на обвинение своих противников, будто он не признает богов, признаваемых государством, а вводит другие, новые божества и будто развращает молодежь выступил на суде и сказал:
— А я, афиняне, прежде всего, удивляюсь тому, на каком основании Мелет[75 — Формально главный обвинитель Сократа (см. Предисловие).] утверждает, будто я не признаю богов, признаваемых государством: что я приношу жертвы в общие праздники и на народных алтарях, это видели все, бывавшие там в то время, да и сам Мелет мог бы видеть, если бы хотел. Что до введения богов, то как можно обвинять меня в этом, вспоминая мои слова, что мне является голос бога, указывающий, что следует делать? Ведь и те, которые руководятся криком птиц и случайными словами людей, делают выводы, очевидно, на основании голосов. А гром? Неужели будет кто сомневаться, что он есть голос или великое предвещание[76 — Греки глубоко верили в знамения; существовала целая наука, занимавшаяся распознанием знаков свыше — мантика. Предсказания делались по снам, совпадениям, случайно услышанным словам, по полету птиц, по их крику, в зависимости от мест, где они садятся и т. д. Вещими птицами считались орел, коршун, ворон. Разумеется, гром, молния, солнечные и лунные затмения тоже принимались в расчет при принятии решений и на войне, и в государственных вопросах, и в личных делах.]? Жрица на треножнике в Дельфах[77 — Пифия (см.: Платон. «Апология Сократа», прим. к с. 52).] разве не голосом тоже возвещает волю бога? Что бог знает наперед будущее и предвещает его, кому хочет, и об этом все говорят и думают так же, как я? Но они именуют тех, кто предвещает будущее, птицами, случайными словами, приметами, предсказателями, а я называю это божественным голосом и думаю, что, называя так, употребляю выражение более близкое к истине и более благочестивое, чем те, которые приписывают птицам силу богов. Что я не клевещу на бога, у меня есть еще такое доказательство: многим друзьям я сообщал советы и ни разу не оказался лжецом.
Услышав это, судьи стали шуметь: одни не верили его рассказу, а другие и завидовали, что он удостоен от богов большей милости, чем они. Тогда Сократ сказал опять:
— Ну, так послушайте дальше, чтобы, у кого есть охота, те еще больше не верили, что боги оказали мне такой почет. Однажды Херефонт[78 — Друг Сократа (см. также: Платон. «Апология Сократа», прим. к с. 52).] вопрошал обо мне бога в Дельфах, и Аполлон в присутствии многих изрек, что нет человека более независимого, справедливого, разумного. Когда судьи, услышав это, конечно, еще больше стали шуметь, Сократ опять сказал:
— Однако, афиняне, еще более высокое мнение бог высказал в своем оракуле о спартанском законодателе Ликурге, чем обо мне. Когда он вошел в храм, говорят, бог обратился к нему с таким приветствием: «Не знаю, как мне назвать тебя — богом или человеком». Но меня он не приравнял к богу, а только признал, что я много выше людей. Но все-таки вы и в том не верьте слепо богу, а рассматривайте то, что сказал бог. Знаете ли вы человека, который бы меньше меня был рабом плотских страстей? Или человека более бескорыстного, не берущего ни от кого ни подарков, ни платы? Кого можете вы признать с полным основанием более справедливым, чем того, кто так применился к своему положению, что ни в чем чужом не нуждается? А мудрым не правильно ли будет назвать того, кто с тех пор, как начал понимать, что ему говорят, непрестанно исследовал и учился чему только мог хорошему? Что мой труд не пропал даром, не служит ли доказательство то, что многие граждане, стремящиеся к нравственному совершенству, да и многие иноземцы желают быть в общении со мною более, чем с кем-либо другим? А какая причина того, что хотя все знают, что я не имею возможности отплачивать деньгами, тем не менее, многие желают мне что-нибудь подарить? А того, что от меня никто не требует отплаты за благодеяния, а многие признают, что мне обязаны благодарностью? А того, что во время осады[79 — 404 год, когда Афины капитулировали перед войсками во главе со спартанским военачальником Лисандром.] все горевали о своей участи, а я жил, так же ни в чем не нуждаясь, как в дни наивысшего благоденствия нашего отечества? А того, что все покупают себе на рынке дорогие удовольствия, а я ухитряюсь добыть из своей души без расходов удовольствия более приятные, чем те? А если никто не мог бы уличить меня во лжи относительно всего, что я сказал о себе, то разве не справедлива будет похвала мне и от богов, и от людей? И несмотря на это, ты утверждаешь, Мелет, что я, при таком образе действия, раз вращаю молодежь? Нам известно, в чем состоит развращение молодежи; скажи же нам, знаешь ли ты кого-нибудь, кого я сделал из благочестивого нечестивым, из скромного — дерзким, из экономного — расточительным, из умеренно пившего — пьяницей, из трудолюбивого — неженкой или рабом другой низменной страсти?
— Но, клянусь Зевсом, — отвечал Мелет, — я знаю тех, кого ты уговорил слушаться тебя больше, чем родителей.
— Согласен, — сказал Сократ, — в вопросе о воспитании: вопрос этот, как все знают, меня интересует. Однако относительно здоровья люди больше слушаются врачей, чем родителей; в Народном собрании, как известно, все афиняне слушаются больше разумных ораторов, чем родственников. Да ведь и при выборах в стратеги не отдаете ли вы предпочтение пред отцами и братьями и, клянусь Зевсом, даже пред самими собой тем, кого считаете главными знатоками в военном деле?
— Да, — заметил Мелет, — потому что это полезно и является обычаем.
— В таком случае, — продолжал Сократ, — не кажется ли тебе странным еще вот что: во всех действиях лучшие знатоки пользуются не только равенством, но и предпочтением, и вот за то, что меня считают некоторые знающим в таком полезном для людей искусстве, как воспитание, ты желаешь меня казнить?
Конечно, было сказано больше этого самим Сократом и друзьями, говорившими в его пользу, но я не имел в виду передать все происходившее на суде: мне достаточно было показать, что Сократ выше всего ставил оправдаться от обвинения в нечестии по отношению к богам и в несправедливости по отношению к людям, а молить об освобождении от казни он не находил нужным, а, напротив, полагал, что ему уже пора умереть. Что таково именно было его мнение, стало еще очевиднее, когда было окончено голосование в его деле. Когда ему предложили назначить себе штраф, он ни сам не назначил его, ни друзьям не позволил, а, напротив, даже говорил, что назначать себе штраф — это значит признать себя виновным. Потом, когда друзья хотели его похитить из тюрьмы, он не согласился и, кажется, даже посмеялся над ними, спросив, знают ли они какое место за пределами Аттики, куда не было бы доступа смерти. По окончании суда Сократ сказал: — Однако, афиняне, лица, подучившие свидетелей давать ложную присягу и лжесвидетельствовать против меня, и лица, слушавшиеся их, должны сознавать свое нечестие и несправедливость. А мне почему чувствовать себя униженным