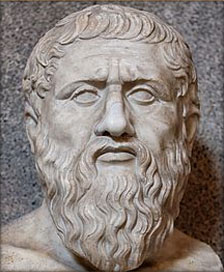и самого себя и других. Так ты считаешь?
— Да.
— Но каким образом с помощью этого знания будет он знать, что именно он познает? Ведь законы здоровья он познает с помощью врачебного искусства, а не рассудительности, законы гармонии — не благодаря рассудительности, а благодаря искусству музыки, правила домостроительства — тоже не с помощью рассудительности, но благодаря искусству зодчества, и так же обстоит дело во всем остальном. Разве нет?
— По-видимому, так.
— Каким же образом рассудительность, если она лишь наука наук, узнает, что она познаёт то, что относится к здоровью или же к зодчеству?
— Да, это для нее невозможно.
— Значит, тот, кто не знает эти предметы, будет лишь знать, что он знающий, но не узнает, что именно ему дано знать.
— Это похоже на правду.
— Итак, рассудительность и умение быть рассудительным — это не способность знать, что именно ты знаешь или чего не знаешь, но, как видно, лишь способность знать вообще, что ты — знающий или незнающий.
— Возможно.
— И значит, такой человек не сможет испытать того, кто утверждает, что знает нечто, и выяснить, знает он это самое или нет: он сможет, по-видимому, только понять, что тот обладает неким знанием, но выявить, знанием чего именно, — в этом рассудительность не сможет ему помочь.
— Очевидно, нет.
— И, следовательно, невозможно будет отличить человека, делающего вид, что он врач, но на самом деле врачом не являющегося, от истинного врача и точно так же других знающих людей — от невежд. Это можно увидеть на следующем примере. Разве не так поступит рассудительный или какой бы то ни было другой человек, если захочет распознать истинного врача и самозванца: он не станет беседовать с ним о врачебном искусстве, ибо, как мы сказали, врач не смыслит ни в чем, кроме здоровья и болезней. Не правда ли?
— Да, так.
— О знании же он ничего не ведает — мы ведь отдали знание на откуп рассудительности.
— Да.
— И о врачебном искусстве, следовательно, человек, умеющий лечить, ничего не знает, поскольку врачебное искусство — это знание.
— Это верно.
— А что врач обладает неким знанием, это рассудительный человек распознает. Но так как необходимо испробовать, какого оно рода, должен он все-таки посмотреть, о чем это знание? Ведь любое знание определяется не только тем, что оно есть знание, но и тем, каково оно и о чем?
— Да, именно этим.
— И врачебное искусство определяется как отличное от других познаний тем, что оно есть знание здоровья и болезней.
— Да.
— Так разве тот, кто стремится разобраться во врачебном искусстве, не должен прежде всего разобраться, в чем именно оно состоит? А до того, что находится за его пределами, ему не должно быть ни малейшего дела.
— Да, не должно.
— Следовательно, тот, кто правильно разбирается, будет рассматривать врача — насколько он способен лечить — в отношении к здоровью и болезням.
— Это естественно.
— Разве не будет он смотреть за тем, чтобы все сказанное или сделанное в этой области было сказано или сделано правильно?
— Это необходимо.
— А не владея врачебным искусством, мог бы кто-нибудь проследить за тем или другим?
— Конечно, нет.
— Этого не мог бы, очевидно, ни рассудительный человек, ни кто-либо другой, кроме врача: ведь рассудительный человек должен быть для этого и врачом.
— Совершенно верно.
— Итак, несомненно, что если рассудительность есть только знание о знании и о невежестве, то она не в состоянии будет распознать ни врача — сведущ ли он в своем искусстве или нет и думает ли он при этом о себе, что он врач, или только изображает из себя такового, — ни какого-либо иного знатока, кем бы он ни был; распознать можно только собрата по искусству, о каких бы мастерах ни шла речь.
— Это очевидно, — подтвердил Критий.
— Так какая же в таком случае нам польза, Критий, — продолжал я, — от рассудительности? Если бы, как мы это предположили с самого начала, рассудительный человек знал, что он знает и чего не знает, что одно он знает, а другое — нет, и мог бы разобраться и в другом человеке точно таким же образом, великую пользу принесла бы она нам, говорим мы, коль скоро мы будем рассудительными: обладая рассудительностью, мы прожили бы свою жизнь безупречно, и также все остальные, кто пользовался бы нашим руководством. Мы и сами не брались бы за дела, в которых ничего не смыслим, но искали бы знатоков, чтобы им эти дела поручить, и других людей, пользующихся нашим руководством, побуждали бы приниматься лишь за то, что они предполагают выполнить правильно, то есть за то, что они хорошо знают. Таким образом, благодаря рассудительности и дом под нашим руководством хорошо бы управлялся, и государство, и все прочее, что подвластно рассудительности. И если ошибки будут устранены и воцарится правильность, то все, кто будут так настроены, в любом деле необходимо станут действовать прекрасно и правильно, а ведь те, кто действуют правильно, бывают счастливы. Не так ли говорили мы, Критий, — продолжал я, — о рассудительности, когда утверждали, что великим благом было бы знать, кто что знает и чего он не знает?
— Разумеется, — отвечал он, — именно так мы и говорили.
— Но теперь ведь ты видишь, что никакая наука никогда не бывает такой по своей природе.
— Да, вижу, — отвечал он.
— Однако, — сказал я, — быть может, то, что мы определили сейчас как рассудительность, а именно возможность отличать знание от невежества, имеет то преимущество, что человек, обладающий этой возможностью, усваивая что-то иное, легче это усваивает, и все представляется ему более ясным, ибо всему, что он изучает, он предпосылает знание. И, быть может, других людей он лучше испытает в отношении того, что ему самому понятно, а те, кто производят испытание без такого знания, делают это слабее и хуже? Значит, мой друг, вот какие примерно выгоды можно извлечь из рассудительности, мы же усматриваем в ней нечто большее и стремимся придать ей более высокое значение, чем она имеет на самом деле?
— Возможно, — отвечал он, — ты и прав.
— Может быть, — сказал я. — Но может и статься, что мы не выяснили ничего полезного. Мне лично рассудительность представляется чем-то странным, если она такова, какой нам показалась. Давай, если ты не возражаешь, согласимся, что можно познавать знание, и не будем также отрицать наше первоначальное предположение, что рассудительность — знание того, кто что знает и чего он не знает, но допустим его; а допустив все это, мы еще лучше увидим, приносит ли она нам в таком своем качестве пользу. Однако вот то, что мы сегодня сказали о рассудительности — будто великим была бы она благом, если бы оказалась способной руководить и домашним и государственным обиходом, — мне кажется, Критий, мы допустили неправильно.
— Почему так? — спросил он.
— А потому, — отвечал я, — что мы с легкостью допустили, будто для людей было бы великим благом, если бы каждый из нас делал сам то, что он знает, а то, что ему неведомо, препоручал бы людям знающим.
— Значит, это, — перебил меня Критий вопросом, — мы неправильно допустили?
— Мне кажется, неправильно, — отвечал я.
— В самом деле, ты говоришь о чудных вещах, мой Сократ, — молвил он.
— Да, клянусь собакой, — сказал я, — и мне так кажется, и, когда я недавно вдумался в это, я тоже сказал, что мне представляется это несколько странным и нам следует опасаться, что мы неверно ведем исследование. По правде сказать, если рассудительность по преимуществу такова, мне совсем не кажется очевидным, что она способствует нашему благу.
— Как ты это понимаешь? — спросил он. — Скажи, чтобы и мы поняли, что ты имеешь в виду.
— Боюсь, — отвечал я, — что говорю пустое; однако необходимо рассмотреть то, что мне видится, и не проходить необдуманно мимо этого, если только мы хоть немного заботимся о себе.
— Ты прекрасно сказал, — молвил Критий.
— Слушай же, — продолжал я, — мой сон, пришел ли он ко мне через роговые ворота или через ворота из слоновой кости[33 — Здесь имеется в виду известное место из «Одиссеи» (XIX 564–567), где Пенелопа говорит еще не узнанному ею мужу об обманчивых и истинных снах. Первые проходят через ворота из слоновой кости, а вторые — через роговые ворота. У Гомера чувствуется в стихах игра слов, которая не всегда передается переводчиками. Она хорошо выражена в переводе В. В. Вересаева:Те, что летят из ворот полированной кости слоновой,Истину лишь заслоняют и сердце людское морочат;Те, что из гладких ворот роговых вылетают наружу,Те роковыми бывают, и все в них свершается точно.]. Ведь если нами руководит по преимуществу рассудительность — в том качестве, как мы ее сейчас определили, — и, с другой стороны, если она действует в соответствии с науками, то ни один самозваный кормчий нас не обманул бы, и ни врач, ни стратег, ни кто-либо другой, делающий вид, что он знает то, чего он не знает, не остался бы неразгаданным. А коль скоро это обстоит таким образом, какой может быть иной для нас вывод, кроме того, что и тела наши будут более здоровыми, чем теперь, и скорее спасутся те, кто рискуют как на войне, так и на море, и любая утварь, одежда, обувь — одним словом, любые вещи будут изготовляться искусно для нас, и все прочее, ибо мы будем пользоваться услугами только истинных мастеров. И если ты не возражаешь, давай согласимся, что прорицание — это также наука о будущем, и рассудительность, руководя им, отпугнет всех шарлатанов, истинных же пророков назначит нам прорицателями того, чему суждено свершиться. Я постигаю, что человеческий род будет подготовлен и снаряжен для сознательной жизни и деятельности таким образом: рассудительность, как верный страж, не допустит, чтобы вмешалось невежество и стало нашим помощником. Однако, мой милый Критий. мы не можем пока быть уверенными в том, что, действуя сознательно, тем самым добьемся для себя благополучия и счастья.
— Но, — возразил Критий, — если ты недооценишь сознательный подход, ты нелегко отыщешь другое средство осуществления благополучия[34 — букв.: «завершение благополучия». Но так как слово «конец», «цель» (ср.: телеология) имеет в греческом языке значение окончательной реализации, совершенной законченности (ср. Зевс Телейос, т. е. Зевс, приводящий к законченному совершенству), это выражение можно перевести как «совершенное осуществление благополучия».].
— Прошу тебя, — сказал я на это, — разъясни мне еще немного: к чему должен я применить сознательный подход? Не к изготовлению ли обуви?
— Нет, клянусь Зевсом!
— Так не к обработке ли меди?
— Никоим образом.
— Но тогда к обработке шерсти, дерева или еще чего-либо в этом роде?
— Конечно, нет.
— Следовательно, — сказал я, — мы не будем продолжать настаивать на слове, гласящем, что человек, живущий сознательно, тем самым и благоденствует. Ведь ты не признаешь, что те, кто живут сознательно, счастливы, наоборот, кажется мне, ты отличаешь благоденствующего человека от людей, живущих в некоторых отношениях сознательно. Но, быть может, ты