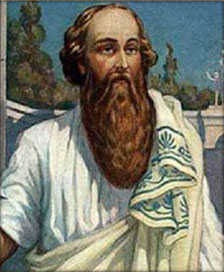от изменения формы железа, которое ковали, но точно определив вес молотков и сделав так, что их удары ничем не отличались друг от друга, затем привязал к одному-единственному гвоздю, вбитому под углом в стену… четыре струны из одинакового материала, равной длины и толщины и поворачивающиеся в одном направлении, прикрепив эти струны одну вслед за другой и подвесив к ним внизу груз… Затем, ударяя поочередно по двум струнам, он нашел созвучия, о которых говорилось выше, каждое в своем соединении. Он установил, что между струной, к которой прикреплен самый большой вес, и струной, к которой прикреплен наименьший вес, образуется интервал в октаву…» (Ямвлих. Жизнь Пифагора. 26. 115-117).
Прервем цитирование: дальше опыт со струнами и грузами излагается во всех деталях, с употреблением сложной музыкальной терминологии. Пусть перед нашими глазами останется просто эта живая картинка: Пифагор, экспериментирующий в кузнице. Вполне возможно, что описанный эпизод действительно имел место. В конце концов, нередко ведь бывало в истории науки, что толчком, непосредственно порождающим великое открытие, становилась какая-нибудь мелкая случайность. Вспомним яблоко, падающее на голову Ньютона, или Архимеда, погружающегося в ванну… Разумеется, роль таких случайностей не следует переоценивать. Соответствующие законы так или иначе, рано или поздно, были бы открыты. Если гениальный ученый упорно размышляет над проблемой — он ее решит. Но то же яблоко или что-нибудь в подобном духе может послужить, так сказать, катализатором.
Почему в аналогичной ситуации не мог оказаться Пифагор? Шел мимо кузницы, вслушался в удары молотков… Но возле кузницы-то ходили десятки людей, слышали те же звуки — и просто шли себе дальше. Да и сам ученый, конечно, не придал бы им никакого значения, если бы к тому моменту уже не размышлял напряженно о вопросах музыкальной гармонии.
Как конкретно мыслилась в пифагореизме пресловутая «гармония сфер»? Согласно точке зрения, которая представляется достаточно вероятной, «в древнейшем варианте (у самого Пифагора) речь шла только о трех сферах — звезд (включая планеты), Луны и Солнца, соотносившихся с тремя интервалами: квартой (3:4), квинтой (2:3) и октавой (1:2), тем самым вся музыкально-математическая сущность космоса сполна выражалась тетрактидой. В древнем пифагореизме гармония сфер служила «доказательством» сокровенной числовой природы мира и имела глубокий этический, эстетический и эсхатологический смысл, поскольку «душа» тоже мыслилась как «гармония», изоморфная гармонии космоса, земная лира была точным «отображением» небесной, игра на ней — приобщением к гармонии Вселенной и приготовлением к возвращению на астральную прародину; музыка производила в душе катарсис (очищение. — И. С.) и являлась медициной духа»[161].
В связи с последним утверждением приведем свидетельство Ямвлиха: «Он (Пифагор. — И. С.) полагал, что и музыка во многом помогает здоровью, если пользоваться ею надлежащим образом. Ибо он ввел в обычай применять музыку в целях очищения и проповедовал лечение музыкой… И сами ученики иной раз использовали музыку в лечебных целях, и одни песни были против угнетающих душу страданий — уныния и терзаний — и приносили большую пользу, а другие, наоборот, — против гнева и злобы и против всякой смены душевного состояния; был и другой род песен — против страстей. Исполнялись под аккомпанемент лиры и пляски. Ибо флейты, считал Пифагор, имеют звучание резкое, изнеженное и нисколько не благородное… Говорят, что и на деле Пифагор унял однажды с помощью флейтиста спондаической мелодией бешенство пьяного юноши из Тавромения, ломившегося ночью в двери дома возлюбленной, у которой был его соперник, и собиравшегося поджечь их. Он был возбужден и взбудоражен фригийским напевом флейты. Это очень быстро остановил Пифагор. Сам он случайно в поздний час наблюдал за ночным небом и убедил флейтиста перейти на спондаический ритм, благодаря чему юноша, быстро успокоившись, в пристойном виде отправился домой…» (Ямвлих. Жизнь Пифагора. 25. 110-112).
Как видим, музыке здесь приписываются прямо-таки чудодейственные свойства. Впрочем, таково было мнение отнюдь не только Пифагора и пифагорейцев. В Греции в целом были распространены представления о том, что музыка имеет огромную власть над душой, что различные ее виды оказывают прямое и немедленное влияние на психическое состояние человека. Так, считалось, что мелодии, сочиненные во фригийском ладе, возбуждают, в лидийском, — напротив, расслабляют и вызывают грусть, в дорийском — приводят в уравновешенное настроение…[162]
В античности вообще о музыке было написано огромное количество теоретических трактатов. И это несмотря на то, что с точки зрения чисто эмпирической эллинская музыка по сравнению, скажем, с современной была довольно простой; нашему искушенному слуху она, пожалуй, показалась бы даже примитивной. Несложным был и набор музыкальных инструментов; среди них выделялись струнные (лира, ее усовершенствованный вариант — кифара) и духовые (различные виды флейт).
Кстати, и идея о том, что лира «благороднее» флейты и в целом струнная музыка предпочтительнее духовой, тоже отнюдь не является исключительно пифагорейской, это был общепринятый взгляд. Объясняли подобное отношение по-разному. Чаще всего — тем, что игра на флейте поневоле сопряжена с некрасивой мимикой (флейтисту приходится надувать щеки и пр.).
Как гласил старинный миф, флейту придумала Афина. Однако, увидев, что игра на этом музыкальном инструменте уродует ее лицо, богиня выбросила свое изобретение. Флейту подобрал сатир (низший звероподобный божок) Марсий и в совершенстве овладел ею. После этого он осмелился вызвать на музыкальное состязание самого Аполлона, прославленного как лучший лирник. Аполлон, разумеется, одержал победу, а Марсия за его наглость жестоко наказал — живьем содрал с него кожу. Вот и еще одно, мифологическое объяснение превосходства лиры над флейтой.
Имел определенное значение, насколько можно судить, и вот какой мотив. Человек, играющий на лире, может при этом одновременно и петь (так чаще всего и делалось). А вот для того, кто играет на флейте, это физически невозможно, он способен только сопровождать своей музыкой пение кого-нибудь другого.
Нужно учитывать, что у древних греков инструментальная музыка, по большому счету, самостоятельной роли не играла; она использовалась главным образом именно как аккомпанемент к вокалу. Можно сказать, выражаясь несколько парадоксально, что главным музыкальным инструментом для эллинов, в сущности, был человеческий голос. Кстати, и музыка, и пение были основаны не столько на мелодии, сколько на ритме; пели хором, исключительно в унисон, без разделения на голоса. Да и танцы соответствовали простоте музыкального оформления: они сводились к плавному, синхронному движению хора в одну сторону, а затем, после поворота, — в другую. Древнегреческий танец — это в большей степени танец рук, чем ног.
Возвращаясь к учению о «гармонии сфер», отметим, что, если у Пифагора оно имело еще относительно простой вид, то в дальнейшем (уже начиная с Платона) это учение значительно усложнилось. Оно пережило античность; «пифагорейско-платоновское понимание музыки подчинило себе всю средневековую и западноевропейскую музыкальную эстетику. Параллельно — благодаря включению гармонии сфер в систему Птолемея — идея музыки сфер продолжала жить в астрономии и астрологической традиции вплоть до нового времени («Гармония мира» Кеплера, 1619, и др.). Представления о гармонии сфер имели успех у поэтов всех веков — от Скифина Теосского до Шекспира («Венецианский купец», V, 1), Гёте (Пролог к «Фаусту»), романтиков и «звездного хора» А. Блока»[163].
А у истоков опять стоял наш герой, самосский мыслитель… Теперь, после всего сказанного, наверное, уже окончательно ясно, почему в пифагореизме математика, астрономия и музыка понимались как некое триединство.
Глава пятая. ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА
Хранители заветов
В какие «иные жизни» ушел Пифагор после кончины — согласно своему собственному учению — об этом, конечно, наука ничего сказать не может. Мы под его «посмертной судьбой» имеем в виду совсем другое: какую память о себе он оставил в грядущих веках?
Память эта, как всем известно, оказалась долгой. Далеко не всем, даже самым выдающимся представителям античной культуры, повезло в этом отношении так, как Пифагору.
А между тем вначале, казалось бы, ничто не сулило подобных перспектив. На момент смерти самосского мыслителя общая ситуация для его учения и его школы выглядела крайне неблагоприятной. Пифагорейский союз был разгромлен — вначале в самом своем «сердце», в Кротоне, а потом и в ряде других городов. Сам Пифагор оказался в положении бесприютного, гонимого беглеца и окончил свои дни если и не насильственно, то, во всяком случае, в одиночестве, забытый учениками…
Такое впечатление создается на первый взгляд. Однако оно оказывается ложным. Нет, пифагорейцы не предали память наставника! Не приходится сомневаться, что могучий натиск врагов на какое-то время деморализовал их, заставил скрываться, вести разъединенное существование. Впрочем, ведь даже и апостолы Христа после ареста и казни Учителя впали в уныние. Но лишь ненадолго: они нашли в себе волю вновь собраться воедино и организовать христианскую Церковь. Которая потом выстояла, несмотря на все гонения.
Между ранней историей христианской Церкви и пифагорейской «церкви» наблюдается ряд черт разительного сходства. Снова и снова приходится убеждаться, что кружок пифагорейцев имел во многом «церковный» характер. Так, идеей, объединяющей всех его членов, был культ основателя, которому приписывали божественное или полубожественное достоинство и от которого ждали в первую очередь спасения души. Ведь ясно же, что подавляющее большинство адептов Пифагора стягивалось к нему, привлеченное отнюдь не возможностью изучать геометрические теоремы и даже не «числовой доктриной» или теорией «гармонии сфер». Нет, конечно, учение о метемпсихозе и о том, как улучшить свою участь в последующей жизни, — вот что прежде всего вызывало интерес.
Впрочем, было между ранним христианством и ранним пифагореизмом и как минимум одно существенное различие. Христиане подчеркивали свою принципиальную аполитичность. «Воздайте кесарево кесарю, а Божье — Богу», — говорил Иисус. Верующие в него выказывали себя лояльными подданными (само собой, пока дело не касалось вопросов веры), не становились в оппозицию каким бы то ни было властям и режимам: «нет власти, что не от Бога».
А пифагорейцы, напротив, — и об этом уже говорилось выше — проявляли большую политическую активность. Причем во вполне определенном духе — подчеркнуто аристократическом: боролись за то, чтобы в эллинских полисах установилась «власть лучших». А конкретно эта последняя понималась как общество, организованное жестко иерархически.
Подобные настроения пифагорейцев шли вразрез с теми тенденциями, которые стали преобладающими в древнегреческой политической жизни как раз начиная с периода поздней архаики. Тенденции эти заключались в поступательной демократизации, на смену иерархии и элитарности приводящей эгалитаризм, идею равенства всех граждан.
Пифагорейцы же были убеждены в том, что люди не равны от природы; а неравное никто не способен сделать равным. Ничего не было для них более чуждого, чем эгалитарные взгляды. Получается, они были просто-таки обречены «противостоять течению». Проповедуя свои воззрения, последователи самосского философа не могли не вызывать сильнейшего раздражения массы сограждан.
Не удивительно, что преследования и погромы пифагорейских сообществ продолжались еще много лет после смерти самого Пифагора. Очередное, особенно крупное восстание против