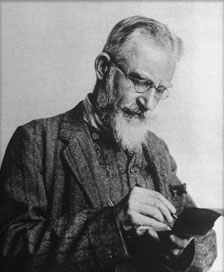принесенного чудовищем драгоценного камня и т.п.) аксиологически переосмыслены в контексте сюжета о непорочном зачатии: сверхестественная причина беременности трактуется как ее внесексуальность, причем акцент делается не на божественном происхождении младенца («сын Божий»), а на асексуальности его зачатия («от Духа Святого»), понятой как безгрешность. Мария как олицетворение целомудрия не просто девственна, — она принципиально асексуальна: показательно, что с точки зрения массового сознания средневековья, женщиной («той женщиной») зовут Приснодеву только черти, не смеющие произнести ее имени. Поскольку христианская средневековая и в целом западная культура в глубинных своих смыслах есть культура мужчин (не в плане предложенной Франкфуртской школой в «Диалектике просвещения» оппозиции мужских и женских культур, но с точки зрения ее непосредственного субъекта, доминирующего интерпретационного ракурса и содержания), постольку феномен сексуальности асимметрично сопрягается в средневековом мировоззрении сугубо с женским началом, в силу чего универсально распространенной средневековой фобией, выражающей страх перед сексуальностью, выступает боязнь женщины, проявляющая себя в форме антифеминизма, восходящего к библейской традиции («горче смерти — женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею» — Екк, 7, 26). В христианской системе отсчета именно на женщине лежит проклятие первородного греха, она — «корень беды, ствол порока», ибо «без числа порождает соблазн» (Марбод Реннский), «оскверняет мужчину» (Иоанн Секунд). Видение женщины как персонифицированной сексуальности конституирует в средневековом христианстве культурный вектор ее демонизации: в своей сексуальности женщина мыслится как орудие сатаны. Сакрализация архаической культурой женской сексуальности как средоточия жизнедарующей силы в новом контексте христианства — в русле общей тенденции, характеризующей процесс смены одной системы сакрализованных ценностей другой — переосмысливается в негативной аксиологии. Связь женщины с дьяволом интерпретируется средневековой европейской культурой именно как связь сексуальная (от циркулирующих в массовом сознании сюжетов о суккубах до концептуализированных рассуждений Фомы Аквинского о том, что дьявол «может принимать образ мужчины и совокупляться с женщиной»). Указанные семантические сдвиги в культуре наглядно проявляются в содержательной трансформации мифологемы змея. Если в архаических культурах мифологема змеи, выступающей, с одной стороны, фаллическим символом (см. у Плутарха о рождении Александра Македонского от «бога в образе змея»), а с другой — отнесенным к женщине символом плодородия (коброголовая богиня урожая зерна и плодородия Рененутет в древнем Египте, змея как символ и атрибут Гекаты и др.), мыслилась в качестве причастной как мужскому, так и женскому началам (соответственно — верхнему, небесному и нижнему, земному мирам: фольклорный крылатый змей, несущий в своем внешнем облике черты как земноводного, так и птицы), выступая символом сакрального брака Земли и неба, имеющего креа-ционный смысл, и в этом плане — сакральным сексуальным символом (змей как аналог Афродиты и Лакшми в античных и древнеиндийских сюжетах), то в христианской традиции образ змея аксиологически переосмыслен и однозначно коррелируется с дьявольским началом. Хотя семантически библейское древо познания добра и зла с притаившимся возле него змеем вырастает на почве глубокой мифологической традиции и генетически восходит к космической вертикали мирового древа, символизирующего, так же как и змей, брачное соединение земли и неба, — аксиологические акценты оказываются в новом контексте диаметрально противоположными, — в христианской системе отсчета змей становится символом luxuria: библейское «беги от греха, как от лица змеи» (Прем. Иис. Сир., 21, 2); соблазнение Евы змеем трактуется агадической легендой как сексуальное совращение; сексуальное искушение описывается аскетами традиционной формулой «играл со мною древний змий» (Иероним, например); иногда через метафору змея («горло змеи») фактически обозначается vagina (например, в «Секвенции об одиннадцати тысячах девственниц» Хильдегарды Бингенской: «…да восславят Агнца Божия, // что заградил гортань древнего Змия // веществом Слова Божия // в сих жемчужинах»). Абсолютная нравственная ценность асексуальности аргументируется в медиевальной культуре учением о девственной природе человека (до грехопадения), максимальным выражением этой презумпции является версия неполового размножения человека (Иоанн Дамаскин, Григорий Нисский). На уровне парадигмальных программ европейской культуры эта установка задает как нормативно-поведенческую парадигму аскезы (от средневекового сведения сексуальности к функции деторождения: глухие супружеские «сорочки невинности» с отверстием в области гениталий, парадигма отношения «к жене как к сестре» после рождения первенца и т.п. — до нравов Викторианской эпохи и контрэротической цензуры классической советской культуры), так и естественно возникающую ее альтернативу. Библейское «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф., 5, 28), будучи доведенным средневековой культурой до полной спекуляции, имело своей оборотной стороною гипертрофирование реальной человеческой сексуальности. Например, в «Деяниях датчан» Сак-сона Грамматика и, в частности, в саге о Гамлете (источник 12 в., к которому восходят многочисленные литературные вариации, включая В. Шекспира) враги ютландского принца, желая проверить, действительно ли он безумен или его мнимое сумасшедствие — не более как тактическая маскировка, подстраивают ему в уединенном месте встречу с молодой женщиной: «если тупость его притворна, он не упустит случая». Данный сюжет не только фундирован имплицитной аксиомой о перманентной доминанте С. в индивидуальном сознании (критерий здравомыслия: если не сексуальный маньяк, то душевнобольной), но и презумпцией семантической редукции С. к физиологическому отправлению, лишенному даже какого бы то ни было эмоционального фона и мажорной чувственной окрашенности (тот факт, что упомянутая женщина оказалась не только знакома Гамлету, но и была с ним связана узами «тесной дружбы» всплывает post factum на периферии сюжета). Данная установка относительно С. в перспективе оказывает значительное влияние на интерпретацию феномена сексуальности в европейской культуре, инспирируя — в качестве противовеса идеалам аскезы — альтернативную аксиологическую установку натуралистического сексуального волюнтаризма: от ренессансных идеалов реабилитации плоти с их гедонистическим экстремизмом («прелюбодеяние кажется таким же простым делом, как поднять и бросить в воздух камень», по Себастьяну Бранту) до теории «стакана воды» начала 20 в. и последующих многочисленных программ «сексуальных революций» (ср. с восточной традицией, где сохраненная свободность сексуальных проявлений человека, не выделенная ни за пределы культурной легитимности, ни в фокус культурной значимости, не нуждается в программно артикулированной и педалируемой свободе). Однако, сохраняющийся христианский контекст делает означенную реабилитацию С. скорее декларативной, нежели реальной: проблема С. по-прежнему артикулируется в европейской культуре как проблема и в индивидуально-личностном своем проявлении выступает узлом глубокого мировоззренческого конфликта: так, в рамках культуры Возрождения Пико делла Мирандола к 27 годам сжег свои эротические стихи и отказался от «телесных вожделений»; Дж. Бокаччо отрекся от своего творчества, и Ф. Петрарка, будучи его близким другом, лишь в конце жизни узнал об авторстве «Декамерона»; сам Петрарка в «Письмах к потомкам» предается нравственым терзаниям по поводу своей неспособности укрощения сексуальных влечений: «Я хотел бы иметь право сказать, что был вполне чужд плотских страстей, но, сказав так, я солгал бы; скажу однако уверенно, что, хотя пыл молодости и темперамента увлекал меня в этой низости, в душе я всегда проклинал ее». В этой связи в европейской культуре остро артикулируется проблема интерпретации С. как его культурной ассимиляции, возможности адаптации факта наличия сексуальной сферы к доминантным аксиологическим шкалам. Классической программой, предложенной европейской традицией в этом направлении, может считаться концепция amor-entrave (асимптотически «незавершенной любви»), разработанная в рамках куртуазной культуры: сексуальная подоплека галантного служения Даме сердца не только эксплицитно артикулируется, но и всемерно культивируется в поэзии трубадуров. Однако, допуская самый широкий спектр сексуальных действий, концепция amor-entrave легитимирует для рыцаря лишь возможность перманентного возбуждения напряженного желания (причем стремление к Донне как персонификации совершенства обретает в куртуазной системе отсчета знаково-спеку-лятивную семантику нравственного совершенствования и приближения к Абсолюту: «Я духом стал богат, // Вкусив любви услад» у Гильема де Кабестаня), — возможность же физического обладания Донной, удовлетворения желания, выводит за пределы принятой аксиологической системы, — соприкосновение с реальностью разрушает условность игрового пространства куртуазии, а потому тотально исключается. Фигура асимптотического экстативного подъема чувств, обретающая семантику духовного восхождения, задает контекст, в котором финальный экстаз выступает как разрешение и, соответственно, завершение этого процесса, а потому его осуществление означало бы пресечение духовной устремленности рыцаря к воплощенному в совершенстве Донны Абсолюту, что неприемлемо в принятых правилах игры. Куртуазная концепция, задав С. как дисциплинарно-игровую поведенческую парадигму, наделила его легитимным статусом в качестве нормативного эротического флирта (см. «Веселая наука»), задав в рамках сложного семиотизма возможность непротиворечивого сосуществования добродетели в христианском ее понимании и, пускай редуцированных, но легализированных сексуальных практик. В течение более двух столетий эта парадигма позволяла носителям куртуазной культуры чувствовать себя добрыми христианами, однако Первая Инквизиция практически приравняла куртуазное мировоззрение к ереси катаров, и в ходе Альбигойских войн оно было фактически искоренено, задав, тем не менее, в европейской культуре литературно-поэтическую традицию описания сексуальной любви как возвышающей силы (Данте, Петрарка, поэты Плеяды и далее). Наряду с этим, вытеснение С. за пределы санкционированной легитимности формирует своего рода эротическое подполье медиевальной культуры: поиск последним жанра, обеспечившего бы ему легальность культурной презентации, детерминирует особый эротический подтекст в развитии средневековой христианской мистики (классически представленный в текстах Бер-нара Клервоского — см. Мистика, Откровение, Бернар Клер-воский), порождает такие неадекватные формы презентации С. в европейской культуре, как инвектива со смакованием (детализированная откровенность средневековых пенетенциа-лий, скурпулезный дескриптивизм Бурхарда Вормского, неприкрытый физиологизм описаний «Молота ведьм», натуралистическая вариативность перечня сексуальных перверсий в «Плаче природы» Алана Лилльского и т.п.); скабреза (в перспективе: от старофранцузских фаблио и старонемецких шванков до новоевропейских гривуазных жанров и порнографии), а также спекулятивная форма презентации феномена С. в культуре, призванная послужить внешним гарантом его дозволенности (от переводов и интерпретаций античной эротической лирики у Гвиберта Ножанского, Серлона де Виль-тона и др. в рамках Овидианского возрождения — до ретро-мифологизации сексуальных сюжетов в новоевропейском искусстве, у Обри Бердслея, например). Подавление здорового эротизма наряду с оформлением культурных традиций скаб-резы и деэротизации С. не проходят бесследно для развития европейской культуры в целом и современного осмысления в ее контексте феномена С, в частности. Последний, удерживая на себе в течение многих столетий фокус культурной значимости, тем не менее, остается как бы запретным плодом для разорванного сознания европейца, социализированного в культуре, задающей аксиологическую дихотомию грешной и праведной любви (см., например, «Призрак либидо» С. Дали, 1934), что порождает широкий спектр неврозов, комплексов и фобий, не характерных для других культурных традиций. На этом фоне в европейской культуре оформляется мощная традиция семиотической интерпретации С, основанной на идее его квазисемантической («метафизической») нагруженности и охватывающая все христианское культурное пространство в его как западном («Метафизика секса» Дж. Ч.А. Эволы), так и православно-восточном («Метафизика пола и любви» Н.А. Бердяева) ареалах. В современной философии феномен С. трактуется как один из фундаментальных