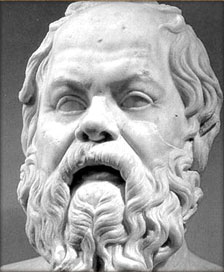становился особенно опасным оттого, что Сократ не брал за свое общение никаких денег, и потому его взгляды легко проникали в среду молодежи из той небогатой среды, откуда собственно и происходил правящий афинский демос.
Так, Сократ снабжал юных политических честолюбцев из среды аристократов и богачей тем самым идеологическим оружием, с которым они в дальнейшем вели борьбу за ниспровержение афинской демократии, и даже дважды добивались устанавления режима тирании. Абстрактная этика Сократа объективно являлась мощным средством противодействия господствующему в Афинах демократическому строю, критикуя необразованный и небогатый демос, на антитезе Сократ по сути утверждал идеологию того класса богатых афинских собственников.
И то обстоятельство, что сам Сократ, будучи бедным, к этому классу не только не относился, но и даже не стремился к нему относиться, и по сути защищал идеологию чуждого себе социального слоя, могло только оттянуть, но не отменить принципиальный конфликт Сократа с политическим гегемоном- афинским демосом. Каждая власть обладает стремлением к самосохранению, и потому суд над Сократом вовсе не являлся расправой над отвлеченным одиночкой–моралистом, как это нередко оценивается в историографии, это было осуждение идеологии крупных собственников победившей после разгрома тирании Тридцати корпорацией афинского демоса, имевшего собственную идеологию и собственного идеолога — Аристофана, жестоко высмеявшего Сократа и по сути приговорившего его в своих «Облаках» еще за двадцать лет до казни философа [22]. Это была победа того самого демократического общественного интереса и обычая, о котором так горячо говорил во время суда над Сократом его обвинитель Мелет.
Таким образом, несколько отвлекаясь от основной темы работы, все же нельзя не заметить: анализируя взгляды и деятельность великого афинского мыслителя, не следует обеднять его творчество и превращать его только в этика–теоретика, некоего мудрого абстракциониста; живая мысль Сократа всегда определенным образом соотносилась с окружавшей его политической реальностью, была востребована одними слоями общества и вызывала искреннее негодование других. Впрочем, его оппозиционность афинской демократии нисколько не умаляет гения этого величайшего философа всех времен и народов.
Кроме того, сам тот факт, что пусть и с определенным опозданием, уже только после прохождения двух тиранических режимов (с учениками Сократа) и недоведенного до конца создания режима личной власти Алкивиада, воспитанника и любовника Сократа, афинский демос все–таки пресек деятельность того, кто уча добродетели управления, при этом всячески отрицал саму возможность этого научения, для нас в рамках этой главы означает еще и то, что тот же афинский демос в общем–то неплохо осознавал всю значимость для функционирования демократического режима системы сооответствующего идеологического воспитания подрастающего поколения граждан, системы воспроизводства демократии. И эта сторона демократического сознания также является тем элементом, который может быть выявлен исключительно на контрасте, выявлен только в конфликте двух и более противостоящих друг другу идеологий: идеологии демократической и направленных против нее идеологий аристократических, олигархических и тиранических, объединенных между собой признанием того, что власть — это такой специфический, а главное — сложный вид деятельности, который неподвластен гражданскому большинству и является прерогативой либо одной сильной личности, либо страт военно–земледельческой аристократии и торгово–ремесленной олигархической плутократии.
Кроме того, анализ тех нюансов «дела Сократа», которые были связаны с воспитанием в юношестве добродетели управления обществом, лишний раз подтверждает известный тезис о том, что, безусловно, не все отношения между людьми как носителями классового интереса автоматически являются политическими отношениями того или иного уровня, и если эти отношения не имеют своим непосредственным предметом власть (в любой форме ее осуществления), то и политическими они не являются. Однако любые общественные связи и отношения, попадая в сферу классового интереса и будучи опосредованы властью, становятся небезразличными для власти и класса, приобретают политическую окраску. Это может относиться к различного рода уровня групповым и даже межличностным связям и отношениям [23]. В том числе и к отношениям по поводу воспитания будущих граждан государства, к тем отношениям, от которых зависело воспроизводство самого общественного строя.
Подводя же итоги данной главы, следует еще раз подчеркнуть: Воззрения Сократа о природе власти и возможности научения искусству управления молодежи были многократно опаснее для афинской демократии, чем взгляды софистов, зарабатывающих деньги как раз на тех самых представлениях об обыденности и общедоступности власти, что господствовали в среде политического гегемона Афин — демоса. Именно поэтому, при всей критике в свой адрес, софисты все–таки имели возможность для относительно безопасного ведения своей деятельности, а Сократ периодически навлекал на себя неудовольствие тех или иных правительств Афин, как демократических, так и тиранических.
И более подробно об открытых конфликтах Сократа с афинскими властями, — причем как с демократической, так и с пришедшей к власти в 404 году до н. э. властью тиранической, мы поговорим в следующих главах.
Глава 17. Последние годы Сократа
Охарактиризовав в работе сущность и эволюцию афинской демократии V века до н. э., рассмотрев биографию и те основные взгляды Сократа, что имели отношение к социально–политической жизни Афин его времени, теперь самое время попытаться совместить все это в тех последних годах жизни этого великого человека, что, собственно говоря, и привели его в вечность.
В главе «Социальный подтекст кризиса афинской демократии в конце V века до н. э.» мы уже осветили историю Афин вплоть до 404 года до н. э., а в главе «Сократ в «Облаках» Аристофана: приглашение на казнь» особенно детально остановились на том моменте, когда Сократ впервые был обвинен в антиобщественной деятельности. Вполне логичным представляется теперь продолжить наш анализ с событий 404 года до н. э., доведя хронологию жизни Сократа вплоть до того момента начала судебного преследования 399 года до н. э., которое мы специально рассмотрим в следующей главе.
Итак, вернемся к афинским события 404 года до н. э., рассмотрев приход к власти тирании Тридцати уже через призму не всего гражданского социума, а применительно к индивидуальной судьбе пусть и стареющего, но зато уже общеэллински известного философа. Известно, что одними из наиболее ярких лидеров тирании были двоюродные братья Критий и Хармид, оба ученики Сократа. Из сообщений Платона (кстати, приходившегося тиранам племянником) и Ксенофонта мы знаем, что старшим был Критий (примерно ровесник Алкивиада), который, первым отучившись у Сократа, впоследствии сам проявил инициативу по введению в кружок Сократа и своего младшего брата Хармида.
Платон посвятил началу взаимоотношений Крития, Хармида и Сократа целый диалог, названный «Хармид». В нем описываются события 431 года до н. э., когда Сократ вернулся после боя у Потидеи и еще имел еще вполне дружеские отношения с Критием, не так давно ходившем слушать Сократа, но к этому времени уже пришедшему к созданию собственной этически- идеологической концепции, видимо, являющейся контрсократовской. Придя в палестру Посейдона Таврия, Сократ садится с Критием и тот сам проявляет инициативу в знакомстве Сократа со своим двоюродным братом Хармидом.
Более того, Критий даже просит Сократа пообщаться с братом и помочь в формировании его становящейся разумности, провести с ним маевтическую беседу .
Так начинается сократовский диалог, который можно определить как диалог о рассудительности и пределах познания. Спрашивая Хармида о том, что же такое рассудительность, Сократ получает ответ, что это осмотрительность. Однако, выяснив, что Хармид относит осмотрительность к прекрасным вещам, Сократ легко доказывает, что прекрасное во всех видах человеческой деятельности — напротив, быстрое и стремительное совершение чего–либо, а осмотрительность — это часто плохо. Хармид говорит о том, что рассудительность — это стыдливость. Но Сократ и тут доказывает, что стыдливость нищих — это их гибель, это — плохо, и потому тоже не подходит .
Раздражаясь, Хармид хватается за соломинку, которой оказывается фраза, сформулированная его братом Критием, который, как уже говорилось выше, считал себя к этому моменту времени совершенно самостоятельным мыслителем и, поскольку он был самолюбивым, очень гордился своими выводами. Сама фраза Крития (кстати, очень созвучная сократовскому призыву доверять власть только немногим лучшим) звучала так: «Рассудительным является тот, кто занимается своим» .
Сократ сразу все понимает и говорит на это Хармиду: «Ах ты, плут! Ведь ты услышал это от нашего Крития или от кого–то другого из мудрецов!» Но находящийся рядом Критий сначала отрицает то, что эти слова принадлежат ему. Далее Сократ быстро доказывает несправедливость данного высказывания на основании того, что в правильно устроенном государстве не может быть закона о том, чтобы все его граждане сами стирали себе, ткали плащи, тачали сапоги, выделывали фляги, скребки, им было запрещено браться за чужие вещи и каждый из них изготавливал бы только свое .
Хармид в растерянности, а Сократ уточняет у него (в присутствии Крития): не от дурачка ли какого–нибудь он это услышал. Хармид, защищая брата, остающегося пока инкогнито (но, судя по всему, очень нервничающего), отстаивает то, что человек, сказавший ему это, является очень мудрым. Сократ говорит, что тот, кто это сказал, видимо, сам не знает, что он имеет в виду. И, как передает Платон, с усмешкой посмотрел на Крития.
Критий в это время был уже раздражен. Стерпеть то, что его тезис был разбит, он не смог и сначала сгоряча накинулся на младшего брата, который так неудачно его защищал и который, по мнению Крития, не сумел понять всего скрытого смысла фразы о том, что каждый должен заниматься своим. Затем Критий стал доказывать, что рассудительность — это все–таки заниматься именно своим. Но Сократ и тут опровергает Крития, так как есть множество людей, занимающихся чужими делами, но при этом являющихся вполне рассудительными. Или, скажем, врач может сам не осозновать, что каким–то действием он принес больному пользу, но уже сам факт принесения этой пользы будет являться примером того, что врач — полезный, и, таким образом, объективно рассудительный человек. То есть рассудительность может быть сама по себе и нерассудительная, неосознаваемая. И как же, по словам Сократа, быть в этом случае с самим смыслом слова «рассудительность»? [5].
В ответ Критий говорит: «Если ты считаешь, что из моих прежних утверждений необходимо следует такой вывод, то я скорее от них отступлюсь и не стану стыдиться